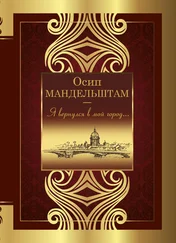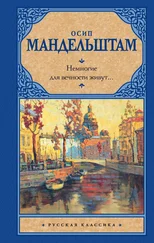– Тому свидетельство языческий сенат —
Сии дела не умирают!
Он раскурил чубук и запахнул халат,
А рядом в шахматы играют.
Честолюбивый сон он променял на сруб
В глухом урочище Сибири,
И вычурный чубук у ядовитых губ,
Сказавших правду в скорбном мире.
Шумели в первый раз германские дубы.
Европа плакала в тенетах.
Квадриги черные вставали на дыбы
На триумфальных поворотах.
Бывало, голубой в стаканах пунш горит.
С широким шумом самовара
Подруга рейнская тихонько говорит,
Вольнолюбивая гитара.
– Еще волнуются живые голоса
О сладкой вольности гражданства!
Но жертвы не хотят слепые небеса:
Вернее труд и постоянство.
Всё перепуталось, и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Всё перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.
* * *
Среди священников левитом молодым
На страже утренней он долго оставался.
Ночь иудейская сгущалася над ним,
И храм разрушенный угрюмо созидался.
Он говорил: «Небес тревожна желтизна.
Уж над Евфратом ночь, бегите, иереи!»
А старцы думали: не наша в том вина;
Се черно-желтый свет, се радость Иудеи.
Он с нами был, когда, на берегу ручья,
Мы в драгоценный лен Субботу пеленали
И семисвещником тяжелым освещали
Ерусалима ночь и чад небытия.
* * *
Твое чудесное произношенье —
Горячий посвист хищных птиц;
Скажу ль: живое впечатленье
Каких-то шелковых зарниц.
«Что» – голова отяжелела.
«Цо» – это я тебя зову!
И далеко прошелестело:
Я тоже на земле живу.
Пусть говорят: любовь крылата,
Смерть окрыленнее стократ;
Еще душа борьбой объята,
А наши губы к ней летят.
И столько воздуха и шелка
И ветра в шепоте твоем,
И, как слепые, ночью долгой
Мы смесь бессолнечную пьем.
* * *
Что поют часы-кузнечик,
Лихорадка шелестит,
И шуршит сухая печка —
Это красный шелк горит.
Что зубами мыши точат
Жизни тоненькое дно —
Это ласточка и дочка
Отвязала мой челнок.
Что на крыше дождь бормочет —
Это черный шелк горит.
Но черемуха услышит
И на дне морском: прости.
Потому что смерть невинна,
И ничем нельзя помочь,
Что в горячке соловьиной
Сердце теплое еще.
* * *
Когда на площадях и в тишине келейной
Мы сходим медленно с ума,
Холодного и чистого рейнвейна
Предложит нам жестокая зима.
В серебряном ведре нам предлагает стужа
Валгаллы белое вино,
И светлый образ северного мужа
Напоминает нам оно.
Но северные скальды грубы,
Не знают радостей игры,
И северным дружинам любы
Янтарь, пожары и пиры.
Им только снится воздух юга —
Чужого неба волшебство,
И все-таки упрямая подруга
Откажется попробовать его.
Я не искал в цветущие мгновенья
Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз,
Но в декабре – торжественное бденье —
Воспоминанье мучит нас!
И в декабре семнадцатого года
Всё потеряли мы, любя:
Один ограблен волею народа,
Другой ограбил сам себя…
Когда-нибудь в столице шалой,
На скифском празднике, на берегу Невы,
При звуках омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы…
Но если эта жизнь – необходимость бреда
И корабельный лес – высокие дома, —
Лети, безрукая победа,
Гиперборейская чума!
На площади с броневиками
Я вижу человека: он
Волков горящими пугает головнями —
Свобода, равенство, закон!
* * *
В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа,
Нам пели Шуберта – родная колыбель!
Шумела мельница, и в песнях урагана
Смеялся музыки голубоглазый хмель.
Старинной песни мир – коричневый, зеленый,
Но только вечно-молодой,
Где соловьиных лип рокочущие кроны
С безумной яростью качает царь лесной.
И сила страшная ночного возвращенья
Та песня дикая, как черное вино:
Это двойник – пустое привиденье —
Бессмысленно глядит в холодное окно!
* * *
На страшной высоте блуждающий огонь,
Но разве так звезда мерцает?
Прозрачная звезда, блуждающий огонь,
Твой брат, Петрополь, умирает.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
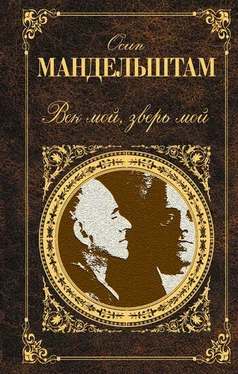
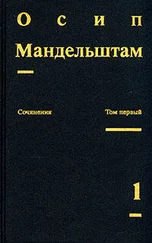

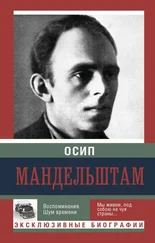


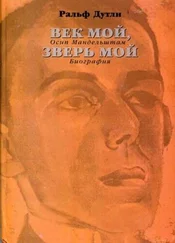

![Осип Мандельштам - Нежнее нежного [сборник]](/books/407468/osip-mandelshtam-nezhnee-nezhnogo-sbornik-thumb.webp)