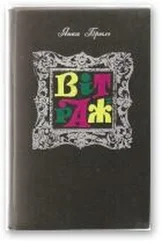Янка Брыль - В семье
Здесь есть возможность читать онлайн «Янка Брыль - В семье» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Русская классическая проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:В семье
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
В семье: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «В семье»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
В семье — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «В семье», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
- Еще накопаешься, - отвечает. Как будто бы ему так легче.
Под серым небом, на мокром зеленом просторе мы не одни. Мы только ближе к дороге. Поодаль от нас, в сторону леса, видно, как чернеет торф, ходят, сгибаются и разгибаются хлопцы и девчата, даже как вылетают из ям торфяные кирпичи. Скоро косовица, все готовят топливо, чтоб до осени успело просохнуть. Глубже, чем можешь, за торфом не заберешься и дважды из одной ямы его не возьмешь. Этих ям, залитых водой, на лугу с каждым годом все больше и больше. Сена от этого не прибавляется и дрова в казенном или купеческом лесу не дешевеют.
Жаворонки не боятся такого дождя, как сегодня. Их не видно в пасмурном небе, только песня звенит, точно сеется на траву, на цветы и черный торф вместе с бесчисленными капельками теплого дождя. Если б не они, на лугу было бы совсем тихо. С дороги доносится то грохот телеги, когда она попадает на булыжник или въезжает на мост, то иногда прогудит машина. Машин у панов не много, ходят редко.
Время уже приближалось к обеду, когда я увидел, что от дороги, лугом, к нам идет человек.
- Кто-то идет, - сказал я.
Отец бросил копать, а затем даже вылез из ямы.
Мы не дети и в чудеса тоже не верим, как бабы, а все же дяди нет целый месяц, и неизвестно, когда он вернется... Писем нет, не было и суда. А если он неизвестен, день его возвращения, так почему бы этому не случиться сегодня?.. Это даже не мысль, а тоска, ноющая, молчаливая тоска... И мы с отцом стоим и смотрим в ту сторону, откуда к нам идет по луговой дороге человек...
Разочарование было не полное.
- Иван! - сказал отец.
Мы пошли навстречу.
Это был наш сосед Иван Брозовский, Шуркин отец.
- Иван Павлович, браток! - вскрикнул отец, еще не доходя, и как-то чудно, как мне показалось - по-бабьи, спросил: - Михася ты не видел?
Иван был страшный: еще больше ссутулился, бледный, в обтрепанной одежде... Рваные ботинки на босу ногу яснее всего говорили о том, что он из дальних краев... А все улыбается, как и раньше.
- Здравствуй, здравствуй, Микола Степанович, - сказал он. - Видел, брат, видел. Здравствуй, Алесь! Как, брат, тебя вытянуло!
- Ну, и как же он, что он говорил? Ваши, браток, все здоровы. Отец с нашим Михасем всю зиму вместе в лес ездили, малыши подросли.
- Коля уже, должно, учится? - с улыбкой спросил Иван. - А как Шурка, как Люба?
- Коля учится, - сказал отец, стараясь рассказывать поскорее, - Шурка с Ниной моей - водой не разольешь, а Люба, браток, она, сам знаешь, плачет... Ну, так что ж он сказал?
- Ничего не сказал, - опять улыбнулся Иван. - А как он - скажу. Закурить нету?.. Хотя ты ведь не куришь... Забыл. Я, брат, не только это забыл, и говорить почти разучился за год. Давай присядем.
Мы уселись на мокрой траве, где стояли.
- Михась в Березе, - сказал Иван.
И сразу все стало ясно.
Об этом месте много говорилось, о нем пели песни, за которые очень просто было попасть туда же. Это - концентрационный лагерь, созданный пять лет назад в помощь тюрьмам, которыми трудно было запугать народ. Береза Картузская - два слова, которые на всю панскую Польшу и на весь мир "прославили" дотоле неведомое западнобелорусское местечко.
- Видел я его целый месяц, - рассказывал Иван. - Однако говорить не пришлось. Сам знаешь, слышал - там не разговаривают. Там ты, брат, не Микола Гончарик и я не Иван Брозовский, - номер две тысячи семьсот восемьдесят шестой. Ну, у Михася он больше на добрую тысячу пополнения. И все время молчи!.. Знаешь, как встречают там нашего брата? Даже у пана Дембины, который вез нас туда, что-то шевельнулось в сердце. В полицейском сердце, слышишь? За километр до лагеря говорит: "Ну, комиссары, сядьте да подзаправьтесь из маминой торбы. Здесь вас накормят!.." Сели, известно, а кусок в горло не идет... Не только новичкам, а и нам, кому уже приходилось есть острожный хлеб, в наручниках... А встреча такая: по команде "бегом" сквозь полицейский строй под резиновыми дубинками. Потом, у самой проволоки, поставили на колени. Сапогом в спину, чтоб лицом почувствовал эту колючую проволоку, почувствовал, что такое "вольна и неподлегла ойчизна"* пана Пилсудского. Так вот и жил до последнего дня, не зная, сколько придется там просидеть. Правда, мы не сидели. Работа тоже такая, чтобы ты помнил, где находишься: камни таскаем с места на место, копаем три дня яму - глубокую, прямую, ровненько обрезая края, - а потом засыпаем и утрамбовываем... А свободное время простаивали "смирно"... Сидеть можно только на полу, обняв колени. А всего тяжелее - могильное молчание. Один только раз я услышал громкий человеческий голос. Это было вначале, как только нас пригнали. В коридоре нас опять колотили резиновыми палками, приговаривая: "Тэмп комунэ!"** И вот один украинец крикнул на весь коридор: "Хай живэ Радянська..." Окончить ему не дали. Избили так, что лежал весь в крови. Молодой товарищ, горячий... Там наше дело - высидеть срок и снова сюда. Это, брат, не тюрьма... Ну, так как же нам, Микола Степанович, закурить?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «В семье»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «В семье» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «В семье» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.