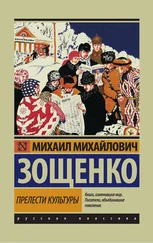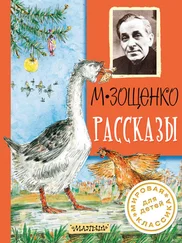В тесном помещении писательского ресторана жарко, удушливо пахнет цветами, за дверью, на площадке лестницы, четыре музыканта безмятежно играют шопеновский марш, а здесь, у праха последнего русского классика, идет перепалка.
Вдова M. M., подняв над гробом голову, тоже встревает в эту, "так сказать", дискуссию:
- Разрешите и мне два слова.
И не дождавшись разрешения, выкрикивает эти два слова:
- Михаил Михайлович всегда говорил мне, что он пишет для народа.
Становится жутко. Еще кто-то что-то кричит. Суетятся, мечутся в толпе перепуганные устроители этого мероприятия.
А Зощенко спокойно лежит в цветах. Лицо его - при жизни темное, смуглое, как у факира, - сейчас побледнело, посерело, но на губах играет (не стынет, а играет!) неповторимая зощенковская улыбка-усмешка.
Панихиду срочно прекратили. Перекрывая другие голоса и требования вдовы "зачитать телеграммы", Капица предлагает родственникам проститься с покойным.
Я тоже встал в эту недлинную очередь, чтобы последний раз посмотреть в лицо M. M. и приложиться к его холодному лбу.
И тут, когда все вокруг уже двигалось и шумело, когда швейцары и гардеробщики начали выносить венки - над гробом выступил-таки читатель. Почти никто не слыхал его. Я стоял рядом и кое-что расслышал.
Пожилой еврей. Вероятно, накануне вечером и ночью готовил он свою речь, думая, что произнесет ее громогласно, перед лицом огромного скопища людей. А говорить ему пришлось - почти наедине с тем, к кому обращены были его слова!
- Дорогой M. M. С юных лет вы были моим любимым писателем. Вы не только смешили, вы учили нас жить... Примите же мой низкий поклон и самую горячую, сердечную благодарность. Думаю, что говорю это не только от себя, но и от лица миллиона ваших читателей.
Тут же, в этой шумной суете, подошел ко мне незнакомый, очень высокий человек и сказал:
- Пятьдесят лет я знал Мишу. Вместе в 8-й гимназии учились.
Хоронили Михаила Михайловича - в Сестрорецке. Хлопотали о Литераторских мостках - не разрешили.
Ехали мы в автобусе погребальной конторы. Впереди меня сидел Леонтий Раковский. Всю дорогу он шутил с какими-то дамочками, громко смеялся. Заметив, вероятно, мой брезгливый взгляд, он резко повернулся ко мне и сказал:
- Вы, по-видимому, осуждаете меня, А. И. Напрасно. Ей-богу, M. M. был человек веселый, он очень любил женщин. И он бы меня не осудил.
И этой растленной личности поручили "открыть траурный митинг" - у могилы. Сказал он нечто в этом же духе - о том, какой веселый человек был Зощенко, как он любил женщин, цветы и т. д.
Следующим выступил с большой речью - Н. Ф. Григорьев. Он рассказал собравшимся о том, какой Зощенко был интересный, своеобразный писатель. Осмелев, Н. Ф. сообщил даже, что ему "посчастливилось работать с M. M.". Все решили, что Зощенко редактировал Григорьева. Оказывается, наоборот Григорьев, будучи редактором "Костра", редактировал рассказ Зощенко.
- Работать было легко и приятно. С молодыми иной раз бывает труднее работать.
Стиль был выдержан до конца.
По просьбе кого-то Григорьев соврал, сказав, что хоронят M. M. в Сестрорецке - по просьбе родственников.
На кладбище приехало много народа, пожалуй, больше, чем на панихиду. Из москвичей я узнал Д. Д. Шостаковича, Ю. Нагибина.
Не раз в этот день вспоминали мы с друзьями Конюшенную церковь, вагон для устриц и пр.
Но на кладбище хорошо: дюны, сосны, просторное небо. День был необычный для нынешнего питерского лета - солнечный, жаркий, почти знойный.
Вы пишете: "Какая это потеря для нашей литературы!" Зощенко был потерян для нашей литературы двенадцать лет назад. Он сам это понимал. Еще тогда, в 48-м году, он сказал Жене Шварцу:
"Хорошо, что это случилось сейчас, когда мне уже исполнилось пятьдесят лет и я сделал почти все, что мог сделать".
И все-таки очень горько было - и читать эти холодные казенные слова в узенькой черной рамке, и стоять у свежего холмика на кладбище, и снова ехать в город, где уже нет и не будет Михаила Михайловича.