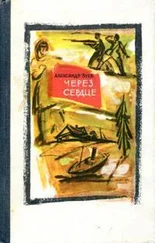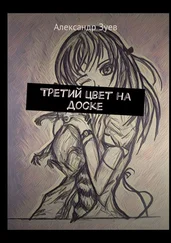И приметил Епимах, был смутен поп всю дорогу, воротил все нос в берега невесело.
Один раз спросил Епимах:
- Пошто, бачко, эко смутно глядишь?
И сказал тут поп про то, как на Устье Кирилко Стручков бога искушал. Приехал с ученья - не узнать парня, ровно бы и не устьинский.
А случай был такой. Спиливал Кирилко перед домом старую лесину и говорит ребятам:
- Вот на капильтю осталось не допилено, а залезу, не страшно.
Ребята его подбивать, - залез действительно, сел на верхний сук и кричит: "ничего не боюсь!" А поп в это время мимо шел. Все, конечно, шапки поскидали, а Кирилко хоть бы что, - жеребцом сверху заржал. Народ в смех, попу бы помолчать, а он в сердцах-то и скажи:
- Ужо, бог накажет - свернешься, может.
А тот сверху:
- Да бога то нету.
Ужаснулся поп:
- Как нет бога? Кто про это может знать?
- Я вот знаю.
- Ах ты, младень - больши глаза! - рассердился поп. - Ну, как докажешь - доказывай.
Не надо бы попу останавливаться, - все-таки сан духовный имеешь, чтобы с сопляком спорить, а тут еще народ слушает. При том и положение нехорошее: сопляк наверху сидит, а ты к нему бороду задирай. Да уж сердце было не удержать, что поделаешь.
А Кирилко с дерева-то и начал доказывать:
- Я вот их всех буду ругать - пускай с дерева меня свалят. И бог растакой, и богородица-мать растакая, и Николу туды-суды.
- Ну и дурак! - сказал поп и живо пошел прочь. А потом всю ночь у попа сердце болело, спать не мог, с примочками всю ночь попадья пробегала.
Вот какое было дело, зашла зараза и на Устью, во век неслыхано. Пропал у попа спокой, душа заскучала.
И все пытал поп в дороге у Епимаха, верно ли Шуньга стоит, не прилегает ли кто к старой вере, не зовут ли в раскол, не завелось ли какой заразы.
- Пошто, бачко? - вздымал тяжелую бровь Епимах.
- Время, видишь, неверное, - печаловался поп, - вгустую садит репье, антихристово семя.
Нет, не слыхать, крепка еще Шуньга в вере, тайбола кругом стеной стоит, старики силу держат. Было одно время - зашумливали ребята, да свели заразу старики. Не слыхать.
- То слава богу.
Верный мужик Епимах, любил его поп не зря, посмотрел ласково.
- Стихи-то помнишь? Про нищую братью?
- Как не помнить, бачко?
Крепко всажены у Епимаха святые досельные песни, еще голоштанником бегал - бабка Маланьюшка выучила. Да и сирота разная ходила, старцы да старицы в старое-то время, тоже учили когда стихи петь. Время было дорогое, не нонешное.
И направив парус, когда в курью зашли, напружил грудь Епимах и запел на полный голос:
Как вознесса господь на небо,
Тут заплакала нишша-братия,
И зарыдала нишша-убога...
Хорошо несло карбас по струе, по широкому месту. Слушала Епимаха древняя черная тайбола. Лиственницы старые стоят, что огнем опалены, и калиновые кустья, в кровавых обвесках поздней ягоды. Тихо на Гледуни, только волна гребешком в корму чешет - плик да плик.
Захватывал Епимах холодного осеннего духу полную грудь и опять вел святой стих:
Есть сильня власти, есть купцы да бояра,
Отымут у их гору золотую,
Отымут у их реку медовую...
Сам не чует Епимах, как побежали по лицу светлые слезы, потеплела душа над жалобой странной сироты, которую любил в дальнем своем детстве.
Легка старая песня, сложена протяженно, и распев ее сладостно идет к сердцу.
И видел Епимах, как поп губы сжал и на сторону отвернулся, а в бороду тоже убежали быстрые слезинки.
Оставь им имя божье да осподне,
Будут они сыты и пьяны
И от темной ночи будут крыты.
Кончил Епимах стих и спустил затрепавшийся парус, прошли курью заскрипел опять веслами на пустой Гледуни.
И отряхнулся поп, посморкался, глаза вытер.
- Спасибо, друг. Согреваешь сердце хорошо.
И к Шуньге подъехал поп веселым, издали благословил крестом верный берег шуньгинский.
II
Первую благословил поп Маланьюшку, подивился, что смерть не берет старую. Сказал поп:
- Тебя бы в губернию послать, там бы тебя в газете описали.
Не поняла ничего старуха, - глухая и слепая, как сер-камень.
И пошел тут поп знакомых обходить, началась проба сусла да первичу слезы чистой.
До праздника уж заходила Шуньга пьяная, - поп благословил, не грех.
О празднике то само собой. В часовне поп, лицом почернелый от вчерашней пробы, служит обедню, а по часовне самогонный дух ладан перебивает.
Как вышел Епимах, с тарелкой пошел по народу, - весь скраснел с досады: там, где расписными узорами горят бабьи платы, козлом ходит пьяный Естега и все хватает баб за не те места. А бабы только поталкивают да похохатывают, в охотку видно.
Читать дальше