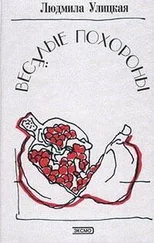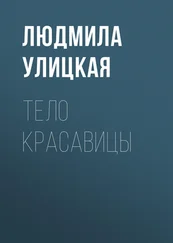Серго хрупал своими непревзойденно белыми зубами и кидался прочь от этого проклятого дома. Выходил к Никитским воротам, сворачивал на Спиридоновку, делал круг и снова возвращался к милому дому в Мерзляковском переулке.
В начале седьмого он окончательно решил уезжать, бросил прощальный взгляд на свое бывшее окно во втором этаже и увидел, как раздвинулись знакомые занавески, и узнал руку тещи в тусклых перстнях.
Он вошел в парадное и едва не потерял сознание от запаха стен - как если бы это был запах родного тела. Поднялся во второй этаж, позвонил четыре раза, и Эмма Ашотовна, как будто нарочно стоявшая возле двери, немедленно открыла ему. Она была одета, причесана, в руках держала маленькую медную кастрюльку. Он машинально поцеловал тещу и прошел в комнату. Она была по-прежнему разделена натрое: передняя отгороженная часть, столовая без окон и два небольших купе с подвижными дверями, с квадратным окном в каждом отсеке. Левая комнатка была когда-то кабинетом тестя, правую занимали они с Маргаритой. Он тронул дверь, она отъехала по узкому рельсу - изобретение покойного Александра Арамовича. Маргариты там не было.
Одна черноглазая девочка жевала, сидя в кроватке, уголок пододеяльника, другая стояла в кроватке и возила по её бортику плюшевого зайца. Виктория выплюнула недожеванный пододеяльник и уставилась с интересом на мужчину. Гаянэ отчаянно закричала и бросила зайца. Вика подумала и ударила его толстой ручкой по груди.
- Дядька плохой! - объявила она. - Уходи!
Серго задом протиснулся в столовую, где Эмма Ашотовна умоляюще махала руками:
- Сережа, они привыкнут, привыкнут... Испугались... Мужчин никогда не видели...
А Серго уже отодвигал вторую дверь-заслонку, где ждал увидеть что угодно, но не это... Бледненькая Маргарита, похожая на газель ещё больше, чем во времена юности, с полуседой головой, посмотрела на него рассеянным взглядом и закрыла глаза. Она разговаривала со своим мужем и не хотела отвлекаться.
- Марго, - позвал он тихо, - это я.
Она открыла глаза и сказала тихо и внятно:
- Хорошо.
И отвернулась.
- Больная. Совсем больная, - поверил он наконец.
...Опустив покрасневшие глаза, зажав лоб широкими кистями, которые ещё несколько лет будут издавать военный запах металлической гари, он молча сидел у стола.
Эмма Ашотовна металась между орущими внучками, безучастной дочерью и безмолвным зятем. Она сверкала крупными камнями на изработанных руках, шуршала старым шелковым платьем павлиньего цвета и говорила красивым низким голосом с гортанными, никогда не исчезающими у армян звуками, говорила торжественно и одновременно обыденно:
- Ты пришел, Серго. Ты пришел. Столько полегло, а ты пришел. Имя твое три года не сходило с её уст днем и ночью. Вот такую свечу за тебя держала перед Господом. Детки твои, и они две свечечки были за тебя...
Серго не отнимал рук ото лба. Жена его была изменница и "би-лядь", хотя и больная, дети - чужие. Но чугунные небеса, которые он носил на своих окаменевших плечах, дрогнули.
А Эмма Ашотовна почуяла это движение и поняла, что вся их жизнь решается в эту минуту и все зависит от того, сможет ли она сказать сейчас все правильно и с добром. Весь черный комок гнева и ярости, который собрался в ней за эти годы против Серго, она, как ей казалось, собрала в левую руку и крепко сжала его в горсти...
Вершинную минуту переживала она. Впервые в жизни остро чувствовала она, что ей не хватает ума, знания жизни, красноречия, и она молила о помощи. Господи, сделай так! Господи, сделай! - отчаянно кричала её душа, но она продолжала говорить с лицом спокойным и радостным:
- Твой дом ждал тебя, Серго... Вот чашка твоя, смотри... Маргарита не велела трогать... Книги твои и тетради старые стоят как стояли... Дождались мы, дождались тебя... Только Александра Арамовича нет с нами... Дети твои дождались тебя, Серго. Я знаю, она теперь встанет...
Плакали за дверью дети. За другой лежала его больная жена. Теща говорила слова, которых он почти и не слышал. Горькие, тяжелые небеса трескались, двигались, опадали кусками. Гулкая боль шла от сердца по всему телу - как будто с него спадали запекшиеся черные куски окалины, - и в этой боли была сладость освобождения от многолетней муки. Эти чужие дети плакали. Их плач касался свежих разломов его сердца и отзывался на них. Он принимал этих чужих детей, рожденных в преступной связи его жены бог знает с кем, может, и не с тем музыкантом.
Он оторвал ладони ото лба, встал монументально - он был крупный человек - и, кавказским торжественным движением отведя руку в сторону, спросил:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу