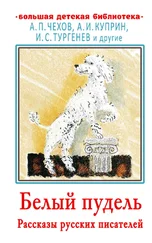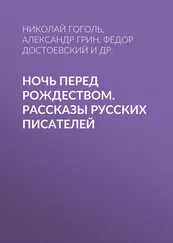Но Епифан ничего, по-видимому, не утаил. Женили его по девятнадцатому году, когда только один старший брат жил отдельно. Земли, по уставной грамоте, приходилось, пожалуй, по три десятины, да земля – тощая, а деревня, хоть и близко к городу, но доходным промыслом не «займается». Была прежде всегда оброчной, при господах, и промышляли кое-чем, извозом и бурлачеством и на ярмарке всякой работой. Некоторые и огородишком кормились, бабы в город все тащили, по воскресеньям – пряжу, грибы, ягоды, а теперь и носить-то нечего. Мать ослабла совсем, и после выдела двоих старших братьев: второй в солдаты попал – еле перебивалась. Он при ней остался, в старой избе. Коровенка одна, пара овец – и то, по нынешнему времени, в редкость.
Жениться ему не хотелось. Мать упросила. В соседней деревне, Утечино, посватали девку, старше его года на четыре, старообразную с лица, не очень бойкую ни на разговор, ни в работе. Только они с матерью поверили слуху, что за ней денег «отвалят», и приданое – четыре больших короба. Ходили слухи, что она «согрешила», оттого и за бесчестье можно получить прибавку. Однако, никакого «богачества» не оказалось. Короб один всего приданого дали кое с чем, да свадьбу сыграли на шестьдесят рублей, да сорок рублей в дом она принесла – вот и все.
Устинья слушала рассказ Епифана и про себя хвалила его истовость, то, что он не жаловался, не срамил жены насчет ее греха, и не начал ей расписывать про постылую женатую жизнь. Он дал только понять, что с первых же недель жена ему стала неподходяща. Она забеременела, родила девочку – должно быть, «заморыша» – и после родов здоровьем начала перепадать. Девочка не дожила и до году. Епифану в семье делалось «не по себе» – так он и выразился. Он взял паспорт, сначала у Макария на ярмарке служил, тоже кухонным мужиком в армянской харчевне. Случай вышел ему с купцами ехать в Москву, а потом и до Питера добраться.
Так правдиво и обстоятельно поговорил о себе Епифан, что и Устинья ему кое-что рассказала про свое деревенское житье. Сначала так, вкратце, а потом и вспоминать полюбила про разные разности из девичьей своей жизни. Она из той же почти «округи», только на арзамасском тракте. И они были крепостные, она еще помнила все отлично, ее тогда уже замуж отдавали. И она, как Епифан же, шла по-старинному, попала за хорошего парня, но лоб ему в скором времени забрили, перед самым объявлением воли. Солдаткой она рано из деревни ушла и рано овдовела, муж на службе, в горах, помер, где-то на китайской границе, она никогда не могла выговорить, в каком месте.
Епифан слушал Устинью, за таким вечерним питьем чая, с особенным выражением лица и поклонами головы, как почтительный сын слушает родную мать. Это ей очень льстило. Она бы ему охотно рассказала про разные соблазны, через какие прошла в Питере солдаткой, да еще вдовой и приятного вида… Но сразу не хотела очень-то баловать – того гляди, зазнается и начнет запанибратствовать. Он парень неглупый, и мог легко понять из ее слов, что она себя – «не в пример прочи-им» – соблюдала довольно строго. Сходилась ли она, нет ли, с кем-нибудь, когда еще была молодой бабенкой – на это Устинья никакого намека не сделала, но всеми своими речами давала ему почувствовать, что с нею и следует обходиться почтительно.
Точно «шайтан», вселился потихоньку Епифан в сердце Устиньи. Так и она называла его по-деревенски «шайтаном», уже после того, как он ее всю к себе притянул…
Снаружи все было по-прежнему, даже горничные-задиры, и те ничего особенного не замечали. Кухонного мужика они оставили в покое, за обедом над ним не смеялись, совсем как будто и нет его тут. А он все такой же, каким был и при поступлении: больше помалчивает, ест медленно, и первый ни к какой еде не приступает, всегда ждет, чтобы другие начали.
Да и приблизив его к себе, Устинья, в первые дни, смотрела на него, как на сироту. Что-то материнское к нему чувствовала. Ей делалось совестно самой себя за то, что она «старуха», и вдруг пользуется таким молодым человеком. А его она жалела и не ставила ему в вину того, что подбил на грех, на запоздалую страсть.
Винить его она не могла. Нельзя ей было говорить, что он ее подбил, одурачил, опоил каким-нибудь дурманом. Это случилось – она и сама не понимает, как. Жалко ей стало его чрезвычайно, – она его, как паренька по двенадцатому году, приласкала… И только позднее она стала испытывать на себе его силу. Говорит он тихо, полушепотом, смиренно, но каждое его слово входит внутрь, и взгляд его серых глаз, немножко исподлобья, пронизывает ее. Вид у нее такой, будто она хозяйка, а он – ее батрак, на деле же совсем по-другому становилось. Она еще дивилась тому, как он не догадывается о своей власти над нею, не начинает мудрить, не вытягивает из нее всех жил…
Читать дальше





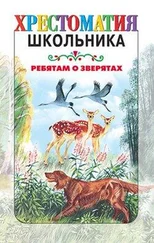
![Коллектив авторов Религия - Старинные рождественские рассказы русских писателей [сборник]](/books/388395/kollektiv-avtorov-religiya-starinnye-rozhdestvenskie-thumb.webp)