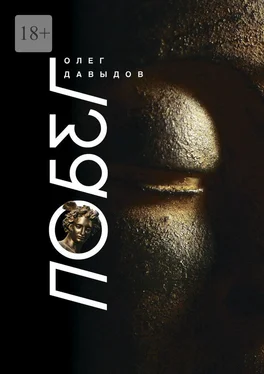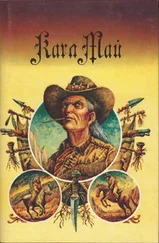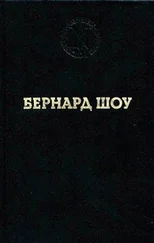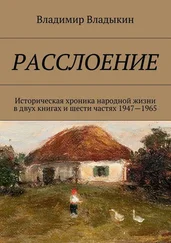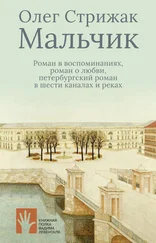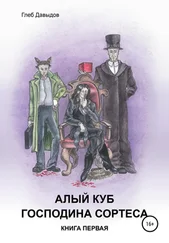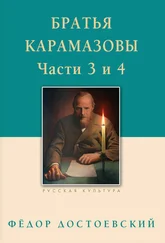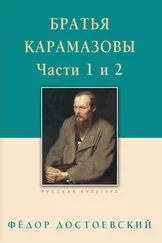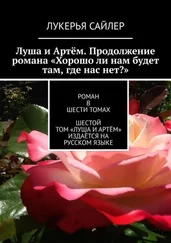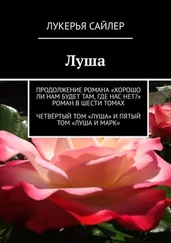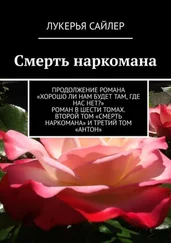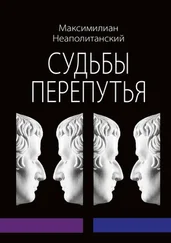В начале 80-х в интеллектуальном подполье ходили машинописные копии романа, а чуть позже (в 1988 году) он был напечатан (под псевдонимом Суламифь Мендельсон) в культовом самиздатовском журнале «Митин журнал». Затем, после развала СССР, роман «Побег» в виде опубликованной книги оказался чем-то еще более невозможным, чем в советские годы: ведь по сравнению с модными тогда романами Пелевина и Сорокина, написанный раньше них и во многом их предвосхитивший «Побег» казался издателям слишком сложным (а следовательно – непродаваемым).
Он и вправду (при всей увлекательности и даже остроте его сюжета) сложен, потому что в нем есть множество философских отступлений и рассуждений, которые не всякий способен «осилить». Однако если все же дать себе труд прочитать и отрефлексировать эти моменты, это делает текст «Побега» еще более тонко и сильно влияющим на читателя. Впрочем, можно попробовать просто пропускать их. «Побег» сделан так, что от него не убудет – даже если его читать с многочисленными пропусками и не по порядку, а начиная с любого места в середине книги.
«Бог создал сновидения, чтобы указать путь спящему, глаза которого во мраке». Этот эпиграф, взятый для романа из египетского папируса I века нашей эры – не просто красивая цитата. Это ключ (или, если хотите, отмычка) к пониманию «Побега». Ведь перед нами роман-сновидение, роман-лабиринт, роман-игра.
Впрочем, он не более сновидение, лабиринт и игра, чем вся та жизнь, которую читатель обычно склонен называть «своей жизнью», или даже – «реальной жизнью». Ведь вся так называемая «наша реальная жизнь» – это запутанная многомерная игра оживших концепций, прочувствованных убеждений и глубоко усвоенных идей, в которые мы до того поверили и вросли в них, что уже совершенно не можем (да и не особо хотим) признать, что все это, на самом деле, мимолетный, преходящий узор облаков на беспредельном и непрерывном небе Сознания. Не хотим и не можем отличить свое истинное Я (Сознание) от игры ума, накрутившейся вокруг мнимого маленького «я», которое лежит в основе этой игры ума и всего «проявленного мира».
В общем, в двух словах «Побег» – это роман-пробуждение к своей истинной сути. В запутанном и сложносочиненном уме героя прорастает росток (побег) Осознания истинного Себя. Себя как не -ума. Все приключения героя, все странные события и совпадения, случающиеся с ним – это процесс роста этого ростка, эволюция ума до его кульминационной точки, в которой он исчезает, сливаясь со своим первозданным Источником. Поначалу этот росток еще постоянно спутывается со сновидческим содержимым игр ума. Со сном разума, который неизменно порождает тучи чудовищ (к середине текста сгущающиеся над головой героя до черноты). Но все чаще случаются вспышки-проблески ясного видения того, что роман («Побег») растет сам по себе, развивается и разворачивается помимо воли и усилий как пишущего, так и читающего.
И если уже в таком свете задать вопрос – так к какому же типу литературы относится «Побег», к естественно проросшему или к синтетическому? – ответ будет ясен, хотя… еще более неоднозначен. Ведь получается, что это действительно не литература, а сама жизнь, проявившаяся в виде вот такого исполненного интеллектуальных завихрений романа. Или же роман, слившийся с жизнью. «Моя история близится к концу, и теперь я уже отчетливо представляю себе, как трудно было бы мне писать, если б то, что я пишу, было вымыслом. – говорит то ли автор, то ли герой повествования. – Представьте себе меня – вот такого, каким я предстаю перед вами на этих страницах. Ведь, чтобы создать мой образ, автору пришлось бы держать в голове массу деталей, которые его (автора) постоянно бы сбивали с толку. Автор ведь человек, читатели, – он ведь имеет душу, которую ему постоянно приходится вкладывать в своих героев: он распыляется по героям, но больше всего вкладывает, конечно, в меня – главного своего героя. И что же, неужели вы думаете, что какой-то там посторонний человек – кем бы он ни был – сможет создать меня таким, как я есть? Да никогда в жизни – обязательно крупицы его души, вложенные в меня, заведут отношения (роман) с тем, что в моем образе принадлежит собственно мне, и получится невообразимая путаница, получится что-то совсем третье, неожиданное, непредсказуемое, и – автор с ужасом увидит свою неудачу.
Он ее увидит, читатели, – уж будьте уверены! – не такой он дурак, этот мой автор, чтобы ее не увидеть.
И он начнет тогда изворачиваться, искоренять себя, прятать свой нос, но не тут-то было – вот как раз тут вы и заметите работу автора над романом, его натугу, его попытку сделать не так, как есть, – заметите и скажите свое: «не верю». «А чему вы собственно не верите? – спросит тогда автор (если, конечно, у него хватит на это наглости). – Тому, что я автор этого романа? Вы что, сами хотите стать его автором? – в добрый час!»
Читать дальше