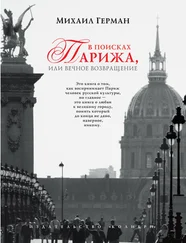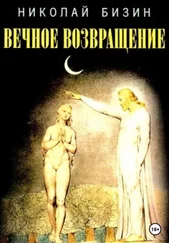Но вот напечатано же, что Басов прав, а он ошибается. Не может же этот серый лист, повторенный шестьсот тысяч раз, вводить в заблуждение!
Григорий Нилыч оделся и пошел в Сельскохозяйственный институт.
Ошеломленный шумом мыслей, он не замечал улиц, на которых угасал день, словно кто-то бросал порошинки сини, растворявшиеся в воздухе, взмучивал небо.
Над жалкими домишками переулка Сельскохозяйственный институт возвышался трехэтажной кирпичной глыбой с мудреными крышами, с наличниками – стиль рюсс.
Окна наливались яркой желчью электрического света. В зеленоватых сумерках у ворот мялось несколько подвод, оттуда глухо падало похрапыванье лошадей и деловое переругиванье. Натруженный хриплый голос выбился из этой возни звуков, – Григорий Нилыч узнал Басова.
– Что? Не знаете, куда едете? К шитиковскому особняку надо подавать!
Мужики ворчали, что на ночь глядя далеко не уедешь, что навалили книг незнамо где; брали под уздцы лошадей, отводили от ворот. Григорий Нилыч отправился за ними и через два дома вошел в открытое парадное. Из шитиковского особняка Басов выселил четыре семьи, десятка полтора разновозрастных пухлых девиц, множество старушек и усатых апоплексических мужчин. Григорий Нилыч беспрепятственно погулял по мелким комнатенкам, кривым коридорам, по скрипучим лестницам добрался до мезонина. Он никого не встретил, но на холодном полу медленно таял нанесенный снег, валялись мятые стружки, по стенам торчали стояки для будущих полок, и всюду – ящики, пачки, связки, горы и груды печатной бумаги. Это было похоже на бедствие. Григорий Нилыч посматривал и усмехался. Справиться с таким количеством материала в небольшом помещении немыслимо. Книги пробивались в каретный и дровяной сараи, затопляли подвалы, проходы, подступали к чердакам, внося холод, сырость, запах векового тления. Григорий Нилыч неотступно видел обожравшегося человека, который может умереть смертью Ария-еретика, лопнувшего в отхожем месте, но не переварить принятую пищу. Разумеется, захлебнувшаяся в потопе повседневная работа прервалась. Профессора, поди, возмущаются, студенты тоже, но менее искренне.
Григорий Нилыч услыхал за перегородкой разговор, тяжкий грохот бросаемых тюков и тихо побрел домой.
Алевтина Семеновна встретила его в передней, и у нее, показалось ему, был тревожный и какой-то коптящий взгляд. Не раздеваясь, Григорий Нилыч прошел в кабинет, вернулся с газетой и заговорил вдохновенно:
– Я уже вижу, как этот баловень власти ходатайствует о повышении всем сотрудникам жалованья на два разряда ввиду научного значения книгохранилища…
Он покраснел, принялся снимать шубу и обличал, оборотясь к вешалке:
– Я вижу, как он расписывается впереди всех своим гнусным росчерком в ведомостях. И те, кто расписываются ниже его залихватских закорючек, вздыхают.
У Алевтины Семеновны задрожали губы и подбородок, кривая молния жалости и боли ударила ей по лицу.
– Ну, не надо так волноваться. Что ты обращаешь внимание?
Она обхватила его за шею, приникла к нему, душила поцелуями, пугаясь того, что делает, и зная, что не в состоянии переносить возбужденные, непривычные, бредовые речи мужа. Она сухими, горячими щеками, сбившимися волосами припадала к его рту, сдавливала его в объятиях, прижималась всем телом, оттесняя от двери, за которой расстилался враждебный непроходимый лабиринт интриг, козней против мужа, – вот уж он и несет невесть что… Григорий Нилыч сгибался под мягкой тяжестью, волосы жены лезли в нос, в зубы, мешали перевести дух, но он всей своей кровью ведал, что нельзя пошевельнуться без того, чтобы это сопротивляющееся движение, даже самое капельное, не оскорбило ее, не обидело, не унизило. Он тонул в вязком звоне тишины квартиры, и некуда было деться от этого теплого, родственного дыхания из легких в легкие, от которого можно обессилеть, обеспамятеть.
Она, видимо, угадывала, что муж собирается сделать что-то непоправимое. Это скрытое неосознанное решение, как иголка в перине, нацелившаяся вот-вот впиться в тело. И Алевтина Семеновна шарила по спине мужа, бормоча: «Плюнь, плюнь на них! Шваль, дрянь… а ты с ними будешь связываться… ты – ученый. Они съедят, не становись поперек…» Он и сам еще не замыслил того, от чего его оттягивали, и уже слышал, как решимость, темная, точно преступление, схватить кого-то, прижать, вырвать свое, испаряется, высачивается из него.
Она за шею потянула его как в омут. Григорий Нилыч двинулся, не сопротивляясь, покорно угадывая ее шаги и намерения. В спальне, едва освещенной косяком света из полуоткрытой двери в столовую, тягуче пахло сном, береженым теплом и еще чем-то неуловимым, детским…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу