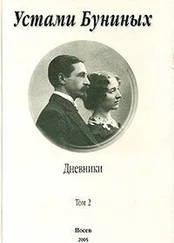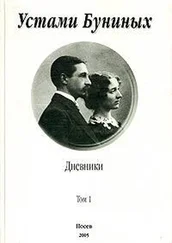Иван Алексеевич Бунин
НОЧЛЕГ
— Ночуй, ночуй, Алексеич! — сказал мне лесник, рябой широкогрудый мужик в косматой волчьей шапке, стоявший передо мной возле караулки. — Самое лучшее тебе ночевать, а я тем временем ребятишек своих проведаю и лыжи тебе добуду… Без лыж ты в отделку измаешься.
— Да ведь и ты измаешься, — нерешительно возразил я.
Лесник мельком взглянул на меня и улыбнулся.
— Я, брат, не тебе чета, — ласково сказал он и, кивнув головой, пошел по темной тропинке, убегавшей в чаще низкорослого дубняка, смутно черневшего по снежным лужкам и оврагам.
Скоро его коротконогая фигура слилась вдали с сумраком, скрылась за изгородью пустого пчельника в разлужье, где из снега торчали ульи, прикрытые камнями и похожие на грибы, и я остался один, совсем один в сонном зимнем лесу. И такая тишина теплого мартовского вечера воцарилась кругом, что хотелось закрыть глаза и стоять так долго-долго, чтобы вполне слиться с окружающим оцепенением. И неподвижно сидели и сонно жмурились у моих ног собаки, — черный с белым жилетом Цыган и остромордый рыжий Волчок в своей пушистой шубке… «Вот и опять дома! — подумал я, глядя в сумерки. — Какой нежный и теплый вечер!..»
Медленно стал падать снежок, вывел меня из задумчивости, и мрачно взглянула на меня пустая изба, когда я отворил ее тяжелую дверь. Низкая и просторная, с маленькими окошечками в толстых кирпичных стенах и огромной широкоплечей печью, она производила впечатление жилища почти дикого, но почему-то меня радовал мой одинокий ночлег в этой молчаливой лесной избе. Дубки уже гудели в белесой темноте за окнами; с утра в лесу таяло, перед вечером на задворках караулки однотонно и нежно стонала пустушка — совсем как в полую воду; теперь снова возвращалась зима, и, когда я зажег в печи солому, поставил ни загнетку чугунчик с водой и вышел в сени, чтобы взять охапку хворосту, навстречу мне понесло свежестью весенней метели. Сонный ночной ветер зашуршал в темноте по крыше, и мне стало холодно, но зато как приятно было снова вбежать в теплую избу и накрепко захлопнуть ее черную, липкую дверь! Изба уже наполнилась душистым запахом сырых дубовых дров и фантастично была озарена яркой пастью печки. Длинные оранжево-красные языки вырывались из нее и, дрожа и переплетаясь, бежали и лизали устье, а противоположная стена, покрытая густым слоем сажи от топки по-курному, трепетно искрилась, как смоляная. Кошка, черная и блестящая, точно пантера, примостилась в конце широкой лавки у самой загнетки, съежилась и жмурилась, сладостно мурлыкая; красный голенастый петух, разбуженный огнем, тупо бродил по соломе, накиданной на полу, в теплом кругу света, а из-под лавки вдруг блеснули самоцветными камнями два глаза Волчка, с приподнятыми ушами смотревшего на кошку, и — боже! — сколько негодования было в его пристальном взгляде!
— Ты зачем сюда? — закричал я на него с деланной злобой и, распахнув дверь, отчаянно затопал ногами, когда Волчок, поджав хвост, с визгом кинулся в сени.
Чугун с кулешом между тем нагревался. Он уже шипел и запевал задумчивыми, жалобными голосами, и было что-то трогательное в его детском напеве, и дикой красотой старой русской сказки притягивала к себе широкая ярко-цветная игра пламени, когда я присаживался порой на дубовый пенек среди полутемной избы и подолгу, как очарованный, смотрел на бегущие оранжевые ленты.
Наконец таган на загнетке прокалился почти докрасна…
Черный хлеб был липок, как замазка, от чугунка резко воняло салом, но я ел с неразборчивостью крепко проголодавшегося человека. Свет замирающего в печи пламени дрожал вокруг меня под низкими потолками и озарял то окна, то покоробленную доску иконы, стоявшей в переднем углу на лавке; изображение на доске было суздальское, большие глаза Христа, похожего на Будду, были страшны в этом мерцании, но, собрав со стола корки и настелив на лавке возле печки соломы, я перекрестился на старую икону почти с детской верой. Потом я кликнул в избу собак, кинул в изголовье полушубок и растянулся на соломе. Собаки подошли, посмотрели на меня и, с визгом зевая, улеглись возле лавки. И все кругом стало еще тише и печальнее.
Чтобы не угореть, я не закрыл трубы и не задвинул печку заслонкой. Дрова между тем прогорели, и свет от углей стал медленно меркнуть. Темнота угрюмо сгущалась, отовсюду подвигаясь к печке. На мгновение в сумраке у дверей мне померещилась фигура монахини — и вдруг мне стало жутко…
Читать дальше
![Иван Бунин Ночлег [Лирические картины] обложка книги](/books/408705/ivan-bunin-nochleg-liricheskie-kartiny-cover.webp)