— Очень приятно… если у кого талант.
Тут я потянул Петьку за тужурку и говорю вполголоса: «идем что ли, будет» — но он шепчет в ответ: «как то теперь неудобно уйти» — и опять к Пушкину:
— А что, Александр Сергеевич, может сделали бы нам честь, зашли бы с нами выпить пивца? О литературе там поговорим и о прочем.
— Покорно благодарю, с удовольствием.
Так и пошли. Мы по бокам, с почтительным смущением, а он по середине, в широкой крылатке, волосы в кудрях, голова немножко книзу, — совершенный Пушкин. Публика смотрит с изумлением.
В дверях пивной, пропустив его вперед, немножко задержался, и я спрашиваю Петьку Шулепова:
— На какой черт ты его позвал, он, кажется, сумасшедший?
— Вот вздор, здоровый человек; а может быть он и впрям Пушкин!
— Ну, тогда, значит, ты сам рехнулся.
— Да будет тебе! Зайдем выпьем, а там посмотрим.
Нам подали калинкинского; пиво плохое, но свирепое. А к нему этакие маленькие бараночки, вроде обручального кольца, но с солью. Особо заказали раков.
Человек — как человек, не смущается, помалкивает, только грустный. Сначала у нас разговор не выходил, но скоро пиво помогло. Через полчаса, за которой-то бутылкой, Петька уже кричал на всю пивную:
— Вы, Александр Сергеич, поймите, каково это нам читать на вашем памятнике неправильные строчки! Что это за «прелестью стихов я был полезен» — какая польза от прелести? А у вас как написано: «Что в мой жестокий век восславил я свободу!» Вот за это, Александр Сергеевич, мы вас и любим, мы, русское студенчество. Только вы плохо пиво пьете, а раки нынче очень хороши.
Еще через пол часа Петька неистовствовал:
— Вот что, Пушкин, ты слушай! Хочешь — сейчас пойдем к твоему памятнику — и всю надпись к черту! Ты мне верь, Саша, я зря не говорю! Ты меня поцелуй, Саша, вытри бакены и поцелуй, а то как ты сосал рачью клешню, так у тебя и застряла корочка.
Человек похожий на Пушкина, пил пиво большими глотками, ласково кивал, иногда отвечал односложно, целовал Петю толстыми пушкинскими губами и был, по-видимому, доволен. Только к концу дюжины пива, я заметил, что если пьян Петя Шулепов, если и мое сознанье не очень ясно, то наш гость совсем плох. То ли он не привык пить, то ли мы оглушили его беспардонной болтовней. Голова его склонилась, волосы спутались, галстук сбился на бок, — и совсем он не был теперь похож на собственный памятник. Особенно пострадала крылатка, нехорошо им запачканная, когда мы подымали его из-за столика. Одним словом кончилось это не так приятно, как началось.
Адрес он все-таки нам сказал. Усевшись в пролетку, подъехали к дому в Мерзляковском переулке. С извозчика драгоценный груз нам пришлось тащить обоим, а на неистовый Петькин звонок отперла дверь толстая женщина, ахнувшая при виде мужа.
Я еще довольно сносно владел языком и пытался ей объяснить, что вот какая произошла случайность, но что это ничего, даже очень хорошо. Но Петька перебил меня восклицанием:
— Па-л-учите! И вот, Нат-т-талья Гон… Гончарова, к чему п-приводит легко… легкомысленное п-поведе-ние. Мы, На-талья Г-гончаровна, мы его привезли п-пря-мо с дуэли, а вот это (показал на меня) это — сам Дантес, и я ему р-разобью…
— Перестань, Петька, нехорошо!
— Знаю, что нех-хорошо, знаю! И все-же не п-поз-волю обижать великого п-поэта!
На завтра мы, посовещавшись, чинно и благородно явились на квартиру нового знакомого извиняться. Его дома не было, а жена встретила нас сначала не очень дружелюбно. Но мы были молоды, а Петька хоть и буян, — умел быть галантным и милым человеком. Главное, — мы искренно раскаивались. Посидевши минут десять и объяснив, что во всем виноваты были мы и что силой затащили «Александра Сергеевича» в пивную, мы смирненько удалились. И, мне кажется, что была, в общем, довольна жена человека, похожего на Пушкина. Ведь все это происшествие было как бы доказательством того, что он — человек особой судьбы, как бы отмеченный роком. А Петька еще догадался ввернуть несколько слов о ничтожных детях мира, о святой лире и о божественном глаголе. Удивительно, как у этого болтуна все приходилось к месту!
Очень много — лет пятнадцать — спустя, после всяких житейских скитаний и мытарств, в дни революции, разрухи и московского голода, я вез однажды на детских санках полтора пуда мерзлой картошки. На улице были сугробы снега, а на Тверском бульваре дорожка более или менее протоптана и для санок удобна. И только повернул на бульвар со Страстной площади, как почти столкнулся с человеком странного вида, толстогубым, с полуседыми редкими кудрявыми баками, в легкой, вызеленевшей крылатке — это по зимнему-то морозу! Я был в валенках, а он в каких-то необычных глубоких калошах с меховой оторочкой многолетней давности. Сам — сгорбленный под кулем какого-то зерна, надо полагать — овса или проса.
Читать дальше
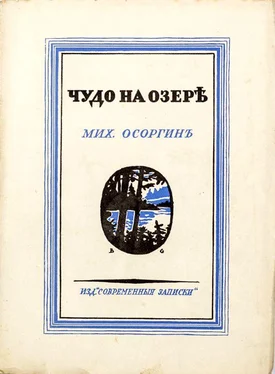




![Михаил Осоргин - Сказки и несказки [Совр. орф.]](/books/397067/mihail-osorgin-skazki-i-neskazki-sovr-orf-thumb.webp)