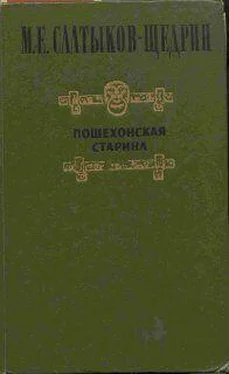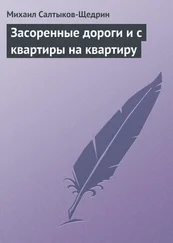Конечно, этот результат достался не легкой ценой, но уж и то было счастье, что среди постоянных скитаний она удержалась на известной черте и не перешла в буффонство. Это доказывало присутствие в ней такта, очень редкого в бедной мелкопоместной среде, всецело, ради сладкого куска, отдающей себя на потеху более зажиточной собратии. Она была толковита, советлива, осторожна. Не всякое, слово, какое на язык попадалось, выкладывала, вестей из дома в дом не переносила и вообще старалась держать себя не как приживалка, а как гостья, на равной ноге с хозяевами. Много ей в этом случае помогал Мишанка, ласковый и экспансивный мальчик, всех приводивший в восторг. Его не только нигде не считали лишним, но нередко даже упрашивали мать оставить его погостить на продолжительное время. Но Марья Маревна пуще всего боялась, чтобы из сына не выработался заурядный приживалец, а сверх того, у нее уж созрел насчет обоих детей особенный план, так что она ни на какие упрашивания не сдавалась.
— Нет, что уж! — обыкновенно отговаривалась она,- и надоест он вам, да и не след детям от матери отвыкать.
И возвращалась на короткое время домой или переезжала, по очереди, к другим соседям.
Повторяю: во всяком случае, Золотухина сумела огородить себя от тех надругательств, которые так часто испытывает бедный люд в невежественном и грубом захолустном кругу. Только однажды предводитель Струнников позволил себе сыграть над ней пошлую шутку, и вот в каких обстоятельствах.
4-го июля, в день именин Струнникова, в предводительском доме давали обед. Народа собралось не меньше пятидесяти человек, а в том числе и Золотухина. По окончании обеда начали разносить десерт, и между прочим шпанские вишни, которые в эту пору года только что появились. Набралось небольшое блюдо, ягод около полутораста, так что гости брали по одной и по две ягоды, только чтоб отведать. Но Марья Маревна не сообразила этого и, когда дошла до нее очередь, взяла с блюда целую горсть, да и за другою полезла. Разумеется, Струнников не выдержал.
— Я знаю, Марья Маревна, что ты не для себя берешь, а деток побаловать хочешь,- сказал он-так я после обеда велю полную коробьюшечку ягод набрать, да и отправлю к тебе домой. А те, что взяла, ты опять на блюдо положи.
Марья Маревна сконфузилась, но, как женщина справедливая, поняла, что сделала ошибку, и беспрекословно положила обратно на блюдо свою добычу. Возвратившись домой, она прежде всего поинтересовалась узнать, прислал ли Струнников обещанную коробьюшку, и, получив утвердительный ответ, приказала подать ее.
Увы! коробьюшка была действительно полна вишнями… но мокрыми, побелевшими, из-под прошлогодней наливки!
Конечно, Золотухина и на этот раз вынуждена была промолчать, но она кровно обиделась, не столько, впрочем, за себя, сколько за детей. И к чести ее следует сказать, что с тех пор нога ее не бывала в предводительском доме.
Наконец Марья Маревна сделала решительный шаг. Мальчикам приближалось уж одиннадцать лет, и все, что захолустье могло ей дать в смысле обучения, было уже исчерпано. Приходилось серьезно думать о продолжении воспитания, и, натурально, взоры ее прежде всего обратились к Москве. Неизвестно, сама ли она догадалась, или надоумил ее отец, только в одно прекрасное утро, одевши близнецов в новенькие курточки, она забрала их с собой и ранним утром отправилась в Отраду.
— Вы смотрите, чаще у княгинюшки ручки целуйте! — твердила она детям дорогой.

Владелец Отрады, князь Андрей Владимирыч Кузьмин-Перекуров, по зимам обыкновенно жил в своем доме в Москве, а летом приезжал в Отраду вместе с женой, бывшей французской актрисой, Селиной Архиповной Бульмиш. Жили они роскошно, детей не имели, принимали в имении московских друзей, но с соседями по захолустью не знались. Князь был одним из тех расслабленных и чванных представителей старинных родов, которые, по-видимому, отстаивают корпоративную связь, но, в сущности, пресмыкаются и ползают, исключительно посвящая свою жизнь поддерживанию дворских и высокобюрократических отношений. Он прошел всю школу благовоспитанных и богатых идиотов. Родился в Париже, воспитывался в Оксфорде, прослужил некоторое время в качестве attache при посольстве в Берлине, но далее по службе не пошел и наконец поселился в Москве, где корчил из себя англомана и писал сочинение под названием: «Река времетечения», в котором каждый вечер, ложась спать, прибавлял по одной строчке. И наружность он имел нелепую: ходил прямо, не сгибая ног и выпятив грудь, и чванно нес на длинной шее несоразмерно большую голову с лошадиного типа лицом, расцвеченным желто-красными подпалинами, как у гнедого мерина. Ни в какие распоряжения по имению он не входил, ничего в хозяйстве не смыслил и предоставил управляющему и бурмистру устраиваться, как хотят, наблюдая только, чтобы малейшее желание Селины Архиповны было выполняемо точно и безотговорочно.
Читать дальше