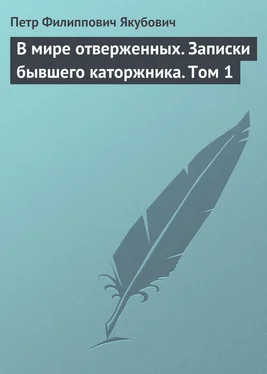— Телеграмма была с уплоченным ответом?
— Да.
— И вы ничего не ответили хоть сами?
— Нет!
— Но вы могли по крайней-мере сообщить мне, что случилась телеграмма, которая не может быть выдана! право, не знаю, как назвать ваш поступок. Что подумает моя мать, не получив ответа? Представляю себе, сколько начальств она обошла, прежде чем наткнулась наконец на сострадательную душу.
— Да, это верно, верно. Горькая правда. Я не подумал в то время; я действительно был виноват. Мы поспешим исправить ошибку. Я телеграфирую сановному лицу, которое спрашивает… Скажите: что именно я должен написать?
Я с сердцем отвечал, что мне нет ни малейшего дела до сановного лица, что оно не ко мне обращается, и он может отвечать ему что хочет.
— Но все-таки… Написать: здоров, бодр?
— Повторяю: пишите, что вам угодно. Я пошлю телеграмму самой матери!
— Прекрасно, прекрасно. Вот бумага, садитесь и пишите сейчас же. Вот и бланки для телеграмм. У меня они всегда есть. Пишите, пожалуйста, я немедленно отошлю на станцию. Вижу, что доставил вам сильное огорчение. В нынешние времена подобная привязанность к родителям редкость, и она сильно меня трогает.
Эти развязные слова, от которых веяло бессердечным самодовольством, опять взорвали меня. Я снова разразился горькими упреками.
— Преследуйте меня, оскорбляйте, мучьте, — сказал я с нервной дрожью и слезами в голосе, — я человек со связанными руками… Но по какому же праву и за что мучите вы не повинных ни в чем людей — мою мать, моих родных?
Лучезаров на минуту, казалось, растерялся и, покраснев как пион, не знал, что делать, что говорить.
— Я, кажется, не мучил вас, не оскорблял, — лепетал он, — совсем даже напротив…
— И вы говорите это не против совести? — продолжал я свое нападение. — Вы не унижали меня в истории с пробоем? Во всех несправедливых прижимках и придирках, которые делали арестантам, в том числе и мне? Вы полагали, что я равнодушно смотрю на то, что в тюрьме проливается кровь и совершается надругание над женщиной?
— Я вижу, что вы сильно взволнованы и не знаете, что говорите, — отвечал Лучезаров, понижая голос почти до конфиденциального шепота. — Выйди, братец, за дверь! — обратился он громко к стоявшему тут же с ружьем часовому. Тот немедленно повиновался.
— Совершенно напрасно вините вы меня за отношение к арестантам, — начал он свое оправдание. — Что касается вас лично, то как могу я выделять вас из общей массы? У меня нет даже права на это. В истории с пробоем, например, я упустил даже из виду первоначально, что вы находились в этой самой камере.
— Но неужели вы до сих пор искренно убеждены, что были правы в этой истории?
— Видите ли что, вы судите как частное лицо и отчасти несколько заинтересованное… Можно сказать, пострадавшее… Вы не в состоянии вникнуть в положение лица, начальствующего над таким… таким сложным учреждением, как каторжная тюрьма. Я сомневаюсь даже, чтобы вы успели хорошо узнать, что за артисты господа арестанты. Вы слишком для этого неопытны в жизни и… слишком неиспорченны! Для того чтобы держать их в узде, нужно уметь быть страшным, нужно употреблять время от времени грозные меры!
— Но все-таки справедливые меры…
— Конечно, конечно. По возможности… Знаете ли вы, например, что весной нынешнего года я получил сведения о подготовлявшемся побеге и о том, что один из этих артистов находится именно в вашей камере?
Я вспомнил о пилках Сокольцева и, внутренно улыбнувшись, промолчал. Лучезаров продолжал, устремляя на меня торжествующий взгляд:
— Не так-то легко решаются вопросы, как вам кажется. Острастка была необходима. Я хорошо знаю каторжный мир, я десять уже лет имею несчастье вести знакомство с этими артистами. Но признаюсь вам: начальство над Шелаевским рудником я принял с самыми радужными мечтаниями, с верой в человека, даже и заклейменного позором, с надеждой, что для исправления и обуздания его достаточно одних угроз и обычных мер наказания… Поверьте: я серьезно и с полным убеждением говорил… перед строем говорил… что не хочу прибегать к телесному наказанию. И не прибег бы!
— Но, однако, прибегли? Вы сделали то, о чем вспомнить нельзя без краски стыда, — наказали женщину!..
— К чему так сильно чувствовать?.. Знаете ли вы, что это была за женщина?
— Все равно. Важно не то, какая она, а то, что она женщина.
— Но что ж было делать? Я видел, как все другие средства, предоставленные мне законом, бессильны, как распущенность и наглость этой твари доходит до невозможного, и значение власти так или иначе следует поддержать.
Читать дальше