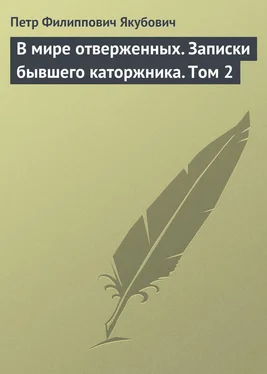— Шапку долой!! — почти взвизгнул помощник и двинулся к Башурову. — Беспоря-адок! Ответом было прежнее молчание.
— Как фамилия?
Надзиратель стрелой подлетел и, приложив к козырьку руку, назвал фамилию.
— Отвести в карцер! — еще пущим визгом разразился Ломов. Башурова повели в карцер. По дороге он, взглянул на больничное окно и с веселой улыбкой кивнул мне головою… Между тем Ломов, пока надзиратели не вернулись из карцерного дворика, в явном возбуждении расхаживал впереди арестантского строя; Ткаченко уверял даже, что видит, как все лицо его перекашивается…
— Ну и злости жевем! Этот еще почище Шестиглазого будет. Сущий волк! Говорил я, что на волка походит, — вот по-моему и вышло… Даром, что голова набок: скрючена, а все видит!
С возвращением надзирателей перекличка продолжалась как ни в чем не бывало. Я с замиранием сердечным ожидал вызова Штейнгарта… Однако каким-то чудом его квитка не оказалось, так же как и квитков некоторых других арестантов, и остальная часть поверки прошла благополучно.
На другое же утро я покинул лазарет и перешел в тюрьму: раз началась борьба, я хотел быть с товарищами. По указанию надзирателя, мне пришлось поместиться не в ту камеру, в которой находился Штейнгарт. Последний настаивал, чтобы я немедленно вызвался к Лучезарову для переговоров. Как ни тяжела была эта обязанность, выбора не представлялось, так как имелись сведения, что Штейнгарт пользовался преимущественным нерасположением капитана, и я заявил дежурному о своем желании видеться с начальником тюрьмы по неотложному делу. На работу в этот день я не был назначен ввиду того, что только что выписался из больницы, и целый день пробродил по тюремному двору, волнуясь и нетерпеливо ожидая, что вот-вот меня пригласят в контору. За три с лишком года пребывания в Шелае Лучезаров несколько избаловал меня в этом отношении: он вызывал меня немедленно всякий раз, как я докладывал о необходимости видеться. Но сегодня происходило что-то странное: часы шли за часами, а меня и не думали вызывать. Вернулись наконец горные рабочие.
— Ну что? Как? — кинулся ко мне Штейнгарт.
— Ничего.
— Все еще не вызывал?
— Нет.
— Что же это значит?
— Сам не знаю. Подождем еще немного…
— Ну, а Валерьян что?
И я стал делиться сведениями, какие успел добыть об арестованном товарище.
И в этот вечер на поверку опять явился Ломов. Мы с Штейнгартом стояли все время в шапках, но он, очевидно, не замечал «беспорядка», и все сошло благополучно. Лучезаров еще целых два дня не подавал никаких признаков жизни, и это начинало нас не на шутку раздражать… Однако в беседах с Штейнгартом я считал своим долгом по возможности охлаждать его негодование и силился даже придать всей истории несколько комический характер. Штейнгарта это злило.
— Что вы тут комичного видите, я не понимаю! — говорил он с сердцем. — И разве сами вы не то же делаете, что и мы?
— Конечно, делаю, но это не мешает мне внутренно подсмеиваться и над собой. Подумайте сами: каторгу мы терпим, солдатский строй терпим, черт знает что терпим, а тут вдруг из-за какой-то несчастной шапки артачимся!
— Иван Николаевич, да ведь одна лишняя капля может переполнить чашу терпения…
— Но не лишить способности рассуждать логически. Снимание шапки — такая же в конце концов формальность, как и все остальное. От товарищества я, разумеется, никогда не отступлю; возможно и то, что, живи я здесь один, без вас, я и тогда поступил бы так же, как теперь, вместе с вами. Но, с другой стороны, по совести скажу вам, что если, бы товарищи решили плюнуть на этот вопрос, я не стал бы упираться…
Штейнгарт горячо протестовал против такого взгляда.
— Я гляжу не так… По-моему, даже телесное наказание не в такой степени принижает человека! Что может сделать человек со связанными руками против грубого физического насилия? И разве его оно унижает? Но этот сравнительно маленький и смешной, на ваш взгляд, вопрос об обязательном снимании шапки — о, это совсем другое дело! Тут я не пассивно, а уже активно унижаюсь, из шкурного страха я сам, собственной рукой делаю то, что мне в высшей степени неприятно делать…
— Значит, Дмитрий Петрович… Простите мой вопрос, но помните вы решение, которое приняли в первый вечер пребывания здесь: «Я стану все терпеть, ч-то только не заденет основ моего человеческого достоинства»? Это была просьба, с которою… И вы думаете, что теперь задета одна из таких основ?
Штейнгарт вспыхнул и затем опять побледнел.
Читать дальше