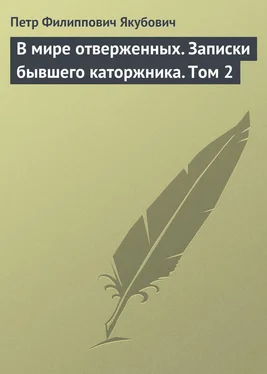Ну, вот мои сегодняшние новости, — закончил Штейнгарт свой рассказ, — не очень-то приятные?
— Будем ждать событий, заранее ничего не придумаешь, — порешили мы, расходясь по своим местам. Я продолжал еще жить в больнице; Башуров и Штейнгарт находились теперь в одной камере.
События не заставили себя ждать. Однажды утром «шепелявый дьявол», он же старший надзиратель, принес в тюрьму пук печатных «Правил Шелаевской каторжной тюрьмы», под которыми красовалась крупно подписанная фамилия капитана Лучезарова, и торжественно стал прибивать их на передней стене каждой из девяти камер. Грамотные из кобылки с любопытством принялись читать. Собственно, чего-нибудь нового и неожиданного в этих правилах не было, но все то, что требовалось от арестантов и раньше, теперь подчеркивалось и подкреплялось какой-нибудь определенной угрозой, ссылкой на ту или иную грозную статью закона. Слова «розги», «плети», «суд», «наручни», «кандалы», «темный карцер», «телесное наказание», «лишение вольной команды» так и пестрели в глазах, так и скребли по сердцу, словно гвоздь по стеклу. Впрочем, на большинство арестантов чтение это не произвело ни малейшего впечатления.
— О, чтоб вас язвило!.. Я думал, что-нибудь насчет манафеста, а это-то мы, и без вашей бумаги знаем, — говорили они, еще не дочитав до конца правил и с презрением отходя прочь.
— Это что за полотенце тут вывесили? — спрашивали возвращавшиеся с работ и еще ничего не слыхавшие.
— А это, насчет, брат, штанов. Увидал начальник, что шибко измяты у нас, так вот обещает выгладить.
Острота встречалась общим смехом и спрашивавший не интересовался больше содержанием бумаги.
Но зато для нас троих содержание это было в высшей степени интересно, так как мы отлично понимали, что впечатление оно рассчитывало произвести, главным образом, на нас. «Ровно в 9 часов вечера, — читали мы, — при первом барабанном бое в казармах арестанты обязаны немедленно ложиться спать. Замеченные надзирателями в нарушении этого правила и в ослушании в первый раз подвергаются наказанию карцером, во второй — розгами». Правило это, за исключением последней угрозы, было известно и раньше; в первый год существования Шелаевской тюрьмы из-за несоблюдения его происходили иногда словесные стычки с надзирателями; раза два или три случалось даже, что арестантов отводили и в карцер, но теперь все это давным-давно уже было забыто, тем более что, утомленные дневной работой, арестанты сами засыпали не позже девяти часов вечера. Что касается меня с товарищами, то мы часто не ложились и еще часа полтора-два. Надзиратели отлично это видели, видал иногда и сам Шестиглазый, производя вечерние обходы тюрьмы, но замечаний никто нам не делал. Теперь же печатно объявлялась на этот, счет внушительная и многознаменательная угроза… «За отказ от работы под предлогом болезни, которой не признал врач или фельдшер (!), а также за невыполнение урока без достаточных (!) оснований» назначалось такое же наказание: сначала карцер, затем розги…
«За неснятие шапки перед начальством», «за дерзкие ответы надзирателям», «за невнимание к звонку и свистку» и за многое другое в том же роде — классическая лоза, казалось, так и свистела в воздухе, терроризируя и без того угнетенное и болезненно настроенное воображение. Точно перечислялось далее, кого из начальствующих лиц следовало называть «ваше превосходительство» и «ваше высокоблагородие» и в каких случаях полагалось сказать «здравия желаем» или «рады стараться»; а в заключение всего стоял такой любопытный пункт: «Надзиратели никому из арестантов не должны говорить вы, а всем без различия ты»… В ряду правил для арестантов статья эта, обращавшаяся с внушением к надзирателям, особенно поражала странностью и видимой ненужностью. Эта-то видимая ненужность и выдавала составителя инструкции: ясно было, что он придавал этой статье особенное значение, что именно в этом пункте с особенным усердием скрипело по бумаге расходившееся чиновничье перо…
Как бы то ни было, на трех человек из полуторых сотен арестантов вывешенные печатные правила произвели болезненно удручающее впечатление. Мы, правда, молчали и даже между собой не держали никаких советов, не принимали никаких преждевременных решений, но сердце у каждого мучительно сжималось, и мрачные предчувствия заволакивали душу холодным туманом… Перспектива новой борьбы, борьбы за человеческое достоинство, в то время как утомленная душа жаждала тишины и спокойствия, хотя бы спокойствием этим был обычный тяжелый строй каторжной жизни, — перспектива эта пугала и мучила… Кому и зачем это нужно? Чего они хотят от нас?
Читать дальше