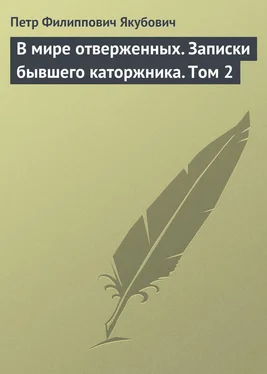— Кичусь?!
— Да, есть небольшой грех… Жили вы, по вашим же собственным рассказам, мирно, спокойно, как у Христа, за пазухой… Нет, постойте, не сердитесь! Знаю, что вы хотите возразить, но у нас не о том сейчас речь, Бурная жизнь внутри самой тюрьмы началась только при нас, и в этом отношении ваш опыт буквально тот же, что и мой.
Часто после подобных «милых» разговоров мы расставались с чувствами уязвленного самолюбия и раздражения друг против друга, хотя на другой же день встречались опять как ни в чем не бывало. Башуров являлся ко мне, широко улыбаясь и дружески протягивая руку. И не проходило десяти минут, как мы опять сцеплялись по какому-нибудь поводу.
— Два слова о недавних историях, Валерьян Михайлович, — заговорил я однажды, — знаете ли, какого я теперь мнения о них?
— Ну, очень любопытно узнать.
— Я думаю, что в этих грустных историях можно найти и свою светлую сторону. Эти убитые богом люди, преступные и невежественные, все же ведь разумные существа, которым не может быть вовсе чуждо сознание человеческого достоинства. В обычное время, в будни, так сказать, жизни, чувство это, правда, тлеет в их душе, как искра под золой, ни для кого не заметное.
И тогда мы зовем их дешевками, возмущаемся их низостью, раболепием, продажностью… Но вот раз в жизни, в праздник жизни, случилось этим несчастным стать на равную ногу с людьми иного, высшего сорта и почувствовать, что сами они тоже люди, а не скоты. И когда эти «высшие» наделали по отношению к ним ряд бестактностей, потухшая было искра вдруг разгорелась, чувство человеческого достоинства проснулось… Но тут мы опять негодуем — на этот раз уж на то, что привычные холопы посмели обнаружить щекотливость испанских грандов! И формы этого взрыва, и ближайшие к нему поводы, и все в нем кажется нам вздорным, нелепым, диким… Точно будто порыв ветра, раздувающий из искры пожар, бывает более разумен!
— Иван Николаевич, извините, но это прямо какая-то декадентская теория… Вы отыскиваете смысл, глубину и чуть ли даже не красоту там, где решительно ничего, кроме бессмыслицы и безобразия, нет.
— А вы, Дмитрий Петрович, какого теперь мления о кобылке? — обратился я к Штейнгарту, молча лежавшему на моей койке и нервно кусавшему себе бороду.
— Ах, все надоело! — отвечал он, нахмурившись еще больше. — Люди везде те же люди, как на низах, так и на верхах развития и образованности.
И с этим загадочным восклицанием он вскочил и убежал по своим делам.
В последних числах октября того же года на одной из вечерних поверок, в субботу, был прочитан, как снег на голову свалившийся с неба, приказ о переводе за дурное поведение в другие рудники Юхорева, Шматова, Азиадинова и Тропина, а Стрельбицкого, по болезни, в зерентуйский лазарет (после истории с отравлением с ним стали делаться какие-то странные нервные припадки, с болью в животе и с судорогами во всем теле; многие подозревали тут простую симуляцию). Значительная часть арестантов выслушала этот приказ с глубокой тайной завистью и изумлением: всем им как бы еще лишний раз подчеркивалось самим начальством, что для того, чтобы вырваться из когтей душного шелайского режима, надо только мутить побольше и устраивать всякого рода скандалы, ни перед чем не останавливаясь и ничего не боясь. Однако лица Юхорева, Шматова и Тропина не сияли торжеством, а, напротив, были очень серьезны: их, очевидно, тревожило тайное опасение, что прочитана пока только часть написанного в бумаге и по прибытии на новое место их накажут немедленно розгами или даже плетьми, а потом объявят увеличение срока каторги.
Увоз пятерых друзей состоялся, на другой день утром, когда по случаю воскресного дня вся тюрьма была дома. Я прогуливался по больничному коридору, когда дверь вдруг растворилась и в больницу вошел, усиленно гремя цепями, в которые его только что заковали, Гнус-Шматов. Не глядя на меня, он прошел в большую палату проститься с товарищами.
— Прощайте, братцы, увозят! — послышался оттуда его торжественно шипевший голос. — Увозят… И что будет — неизвестно… нашлись такие друзья — погубили!
Я с любопытством присел на лавку, ожидая, не скажет ли он и мне чего-нибудь на прощанье. По-прежнему громко лязгая кандалами, Шматов вышел в коридор и, сняв шапку, низко поклонился мне по-актерски.
— Прощай и ты, Миколаич, — прогнусил он, саркастически оскаливая гнилые зубы, — прощай! Спасибо, что в кандалы заковал… Тебе обязан!
Признаюсь, такой грубой, искренне-злостной клеветы, брошенной прямо в лицо, я не ожидал даже и от Шматова. Но прежде чем, придя в себя от удивления, успел я произнести хоть одно слово в ответ, Гнус уже вышел вон торжественно замедленными шагами, заложив руки за спину.
Читать дальше