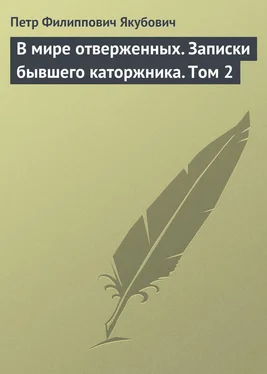— Разбирайте, ребята!
Но ребята не торопились, и никто из присутствовавших даже не пошевельнулся при этом возгласе, точно и не слышал его, — каждый с достоинством продолжал заниматься своим делом. Только те из арестантов, которые ничего не знали и входили в камеру прямо со двора, увидев табак, удивленно спрашивали:
— Это что за табак?
— Берите по кучке, — коротко ответил Шемелин, и удивительно, что этого ответа оказывалось вполне достаточно, так что лишь очень редкие, менее всех дальновидные, после того еще спрашивали:
— А откудова он? Чей?
Большинство принимало этот дар безмолвно, почти равнодушно, словно что-то давно известное, должное и вполне законное. Некоторые кучки лежали, впрочем, до позднего вечера, и я уже думал было, что хозяева этих кучек так и не возьмут их — из чувства ли гордости, потому ли, что сами имеют средства и стесняются брать наравне с бедняками, — однако в конце концов со стола исчез решительно весь табак; взяли свою долю и те, которые не курили, и те, которые свободно могли бы пожертвовать ее в пользу товарищей. [2]
То же самое происходило и в других камерах. Возможно, конечно, что некоторыми из арестантов руководило при этом опасение своим отказом обидеть меня с товарищами.
В ближайший постный день, когда вместо тошнотворной кашицы с иллюзией сала на столе появилась прекрасная баланда с мясом, невольное любопытство опять заставляло меня наблюдать за кобылкой: как она отнесется к этому? Что будет говорить? Но и тут очень долгое время я видел одно лишь холодное молчание и наружно-небрежное равнодушие. Многие, впрочем, вполне, по-видимому, искренно и не замечали даже, что вместо постной пищи едят скоромную. Разговоры шли, вероятно, в кухне, за нашей спиной, но мы их не слышали. Только гораздо позднее стали прорываться вслух отдельные благодарственные отзывы, и то больше со стороны благочестивых, благонамеренных старичков, вроде нашего же Шемелина:
— Кабы не добрые люди, замерли бы в этой тюрьме! Без табаку, без мяса насиделись бы… Дай им бог доброго здоровья, благодетелям нашим!
Степень этих «благодеяний» даже раздувалась и преувеличивалась: назывались порой головокружительные суммы, которые мы будто бы тратили на тюрьму. Но «иваны» и все те, которые считали себя настоящими профессиональными каторжными, держались в этом отношении гордо и независимо, встречая громогласные похвалы нам старичков если и не презрением (табак они все же брали, скоромную баланду в постные дни ели), то показным равнодушием. Лишь во время ссор между собой, когда терялось всякое самообладание, и такие люди высказывались вслух в том же духе и смысле.
— Ты что видал-то на свете, мараказ проклятый, — кричал верзила Петин на маленького Лунькова. — Ты разве в настоящих-то тюрьмах сиживал? В другом разве месте стали б тебя даровым табаком потчевать аль мясом, как борова, откармливать?
— А тебя небось стали б?
— Сравнял меня с собой, осел! Разве ты можешь внимание от таких людей заслужить? Нешто в башке твоей порожней найдется столько мозгу, сколько у Ивана Николаича аль у Дмитрия Петровича в одном мизинце ноги есть?
Любопытно, конечно, было знать, как объясняли себе арестанты материальную помощь, которую мы им оказали, какие мотивы предполагали в наших поступках. Дальнейшие события обнаружили, что многие допускали даже какие-то эгоистические расчеты с нашей стороны, думали, что, принимая наши подарки, они этим, в свою очередь, оказывают нам некоторое благодеяние… Крайне удивил меня по этому поводу один неглупый, в общем, арестант, после нескольких постных дней, случайно прошедших без всяких улучшений пищи, спросивший меня:
— А что, Иван Николаевич, разве вся уж марка-то у вас вышла?
— Какая марка? — спросил я с удивлением.
— Да… по которой полагается вам мясо и табак покупать?
Арестант несколько замялся, увидав мое удивленное лицо, и я так и не понял, что он разумел под своей маркой.
Новичкам предоставлено было Шестиглазым несколько дней отдыха, а затем и их так же, как меня, назначили в гору. Придя в светличку, я тотчас же повел их, в ожидании раскомандировки, в штольню. С шумом и весельем побежали они по темному коридору вперед, оставив меня далеко позади с фонарем.
Вообще я замечал некоторую разницу между теперешним настроением товарищей и тем, что когда-то переживал и испытывал сам. Помню, я чувствовал себя долгое время точно затравленным зверем, ежеминутно и отовсюду ожидая обиды, оскорблений, пугливо и подозрительно глядя на каждого надзирателя как на своего естественного врага, и эта подозрительность не совсем исчезла во мне даже и теперь; и теперь еще я считал за лучшее возможно меньше разговаривать и возможно меньше иметь дела со всяким, кто представлял собой хоть малейшее подобие начальства в моих глазах. Исключением не был даже Петушков, который сам напрашивался на приятельство. Новички, подобно мне, в первые минуты пребывания в Шелайской тюрьме имели подавленный и запуганный вид, но длилось это очень недолго. Благодаря ли природному более жизнерадостному характеру или же тому обстоятельству, что они явились не в качестве пионеров и во всем встречали уже подготовленную почву, только в настоящую минуту они держались так, будто прожили в Шелайском руднике целые годы, — были веселы, непринужденны, свободно разговаривали не только с арестантами, но и с надзирателями, и последние в свою очередь, запуганные моим сдержанным обращением, отвечали им охотно, с видимой даже радостью. Точно какие-то мрачные чары рассеялись, долго державшийся лед растаял… Не скрою: я ловил себя в эти первые дни даже на тайном недовольстве новичками… Мне все казалось, что вот-вот последует что-нибудь очень дурное за их нетактичным, как мне казалось, чересчур свободным поведением, и я пугливо косился по сторонам, точно дикая кошка, выведшая своих детенышей из логовища на вольный свет и все оглядывающаяся, не грозит ли им какая-либо опасность. Но опасности не грозило никакой, и моя одичалая и обледенелая душа тоже мало-помалу оттаивала и расправляла утомленные крылья…
Читать дальше