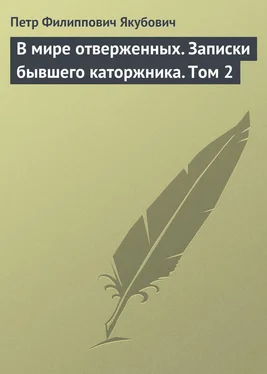— Дергайте же, что ли, канат! Чего он прохлаждается там, скотина? — скомандовал, наконец, офицер.
Казаки энергично задергали… Снизу, как бы в ответ, веревка тоже слегка дрогнула.
— Тащить велит, тащить! Пошел, паря, поливай! — И человек пять казаков, ухватившись за канат, начали изо всех сил тужиться; к ним присоединились и надзиратели.
— У, какая чижолая, варначка!
— Недаром, говорят, вашего Кострова стряхивала. Авторы этих грубых шуток, по-видимому, самих себя подбадривали ими: они, очевидно, порядком трусили, ожидая, что вот-вот вытащат наверх изуродованный труп самоубийцы… Хорунжий, делая со своей стороны вид, что не слышит разговора подчиненных, ухарски подбоченясь, по-прежнему плясал на коне.
— Ну-ну-ну, паря, еще разик… У-ух!
И из колодца вынырнула черная голова Бусова. Все удивленно вскрикнули. Хорунжий побагровел от злости, и румяное, упитанное лицо его искривилось детски-капризной гримасой.
— Ты это что же, братец, а? Ты надо мной смеешься, что ли? Вот я нагайками велю тебя отодрать, собачьего сына. Я тут время из-за тебя даром теряю… Ты почему не тащил, коли нашел?
— Тащите сами, ежели вам нужно, — глухо, едва слышно отозвался Бусов. И, не сбрасывая намотанной вокруг туловища веревки, уселся на срубе шахты.
На мгновение ответ этот ошеломил всех; но затем молодой офицер, забыв всякую осторожность, сделал к шахте гневный прыжок и, нагнувшись, с коня, ударил арестанта нагайкой по лицу. Ярко пунцовый след обозначился тотчас на щеке, и из нижней губы засочилась кровь…
— Так-то ты отвечаешь, мерзавец, офицеру? Рассказывай, что видел?
Но Бусов даже и. не взглянул на своего палача. Не дрогнув ни одним мускулом, низко свесив голову, он продолжал сидеть верхом на срубе, точно погруженный в глубокую думу. Бросив в это время свой наблюдательный пост и подойдя совсем близко к месту действия, я снова обратил внимание на волосы кузнеца, покрытые, как мне еще раньше показалось, белой пеной, какая бывает на загнанных лошадях: это была — седина, отчетливо серебрившаяся теперь на черной смоли волос!..
— Ваше благородие, этого артиста нам арестовать приказано, — подошел к хорунжему, делая под козырек, один из тюремных надзирателей.
— Туда ему и дорога, мерзавцу! — сердито отвечал хорунжий, отъезжая в сторону.
Надзиратели кинулись к Бусову, освободили его от веревки и повели. Он не сопротивлялся.
— Андрей, вы ее видели? — тихо спросил я, осторожно тронув кузнеца за рукав.
Он вздрогнул, поднял на меня глубоко ввалившиеся потускневшие глаза и утвердительно мотнул головой. И в эту минуту я увидал перед собой не молодого, красивого и сильного человека, каким еще на днях знал Бусова, а жалкого, сгорбленного старика…
— Вот ведь каких беспокойств всему свету наделали, варначье семя! — словно ища сочувствия, обратился ко мне арестовавший Бусова надзиратель.
Я молча пожал плечами, и оставив печальную процессию, поспешил домой.
К вечеру с Таней сделался жар и бред. Ей мерещились беглые арестанты, укрывавшиеся по углам нашей комнаты, солдаты, рыщущие по всей деревне, их сверкающие на солнце штыки и угрожающие крики. Волнуясь и гневно жестикулируя, она куда-то посылала меня хлопотать, жаловаться, плакала, проклинала, молила… Меня охватывал ужас при мысли, что с ней начинается нервная горячка, а я не знаю, что делать, что предпринять. Горькими упреками осыпал я себя, проклиная свой эгоизм, свое легкомыслие и давая в душе пламенные обеты — как только установится зимний путь, немедленно отправить сестру в Россию. К счастью, некогда было предаваться бесплодным самоугрызениям: приходилось день и ночь суетиться, пуская в ход те убогие медицинские познания, какие у меня имелись. И судьба сжалилась над моей беспомощностью: жар постепенно исчез, и дня через три больная, хотя и страшно еще бледная, слабая, уже могла сидеть в постели. Всякая опасность, очевидно, миновала.
Но когда, счастливый и радостный, я подошел к Тане и, улыбаясь, взял ее за руку, она вдруг упала мне на грудь и залилась горькими слезами:
— Милый мой, дорогой! Неужели одна смерть может избавить от этого ужаса?..
Прошли годы. Все на свете имеет свой конец — окончилась и моя каторга. Уже многое, очень многое начинает изглаживаться из памяти, и когда в душе выплывает порой из забвения тот или иной образ, то или другое событие, случается — я спрашиваю себя: «Что это — действительно так было или вспомнился какой-нибудь сон?..» Впрочем, записки эти, составленные наполовину еще в каторге, уже навсегда сохранят для меня самое главное, важнейшее, и когда я пересматриваю их — все пережитое до последних мелочей так явственно возникает опять из темной глубины прошлого. И так близки становятся снова все эти «мараказы», «тарбаганы», «дюди», все эти голодные, дикие, невежественные, жестокие, несчастные без конца люди, прежде всего и больше всего — «несчастные»! Сердце опять болит и мучительно стонет! И хочется порой снова очутиться в их среде, снова делить их горькую участь, пытаться находить, искру света на дне их душевного мрака… И так стыдно становится за себя, за то, что опять живешь в стане «ликующих», в стане «праздно болтающих»!
Читать дальше