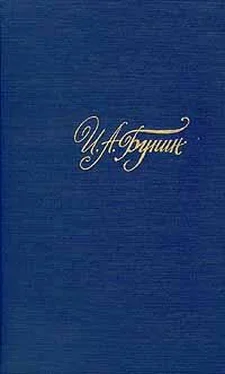Всю жизнь сознательно и бессознательно, преодолеваю, разрушаю я пространство, время, формы. Неутолима и безмерна моя жажда жизни, и я живу не только своим настоящим, по и всем своим прошлым, не только своей собственной жизнью, по и тысячами чужих, всем, что современно мне, и тем, что там, в тумане самых дальних веков. Зачем же? Затем ли, чтобы на этом пути губить себя, или затем, чтобы, напротив, утверждать себя, обогащаясь и усиливаясь?
Есть два разряда людей. В одном, огромном, — люди своего, определенного момента, житейского строительства, делания, люди как бы почти без прошлого, без предков, верные звенья той Цепи, о которой говорит мудрость Индии: что им до того, что так страшно ускользают в безграничность и начало и конец этой Цепи? А в другом, очень сравнительно малом, не только не делатели, не строи гели, а сущие разорители, уже познавшие тщету дела ним и строения, люди мечты, созерцания, удивления себе и миру, люди «умствования», уже втайне откликнувшиеся на древний зов: «Выйди из Цепи!» — уже жаждущие раствориться, исчезнуть во Всеедином и вместе с тем еще люто страждущие, тоскующие о всех тех ликах, воплощениях, в коих пребывали они, особенно же — о каждом миге своего настоящего. Эти люди, одаренные великим богатством восприятий, полученных ими от своих бесчисленных предшественников, чувствующие бесконечно далекие звенья Цепи, существа, дивно (и не в последний ли раз?) воскресившие в своем лице силу и свежесть своего райского праотца, его телесности. Эти люди райски чувственные в своем мироощущении, но рая уже лишенные. Отсюда и великое их раздвоение: мука ухода из Цепи, разлука с нею, сознание тщеты ее — и сугубого, страшного очарования ею. И каждый из этих людей с полным нравом может повторить древнее стенание: «Вечный и Всеобъемлющий! Ты некогда не знал Желания, Жажды. Ты пребывал в покое, но Ты сам нарушил его: Ты зачал и повел безмерную Цепь воплощений, из коих каждому надлежало быть все бесплотнее, все ближе к блаженному Началу. Ныне все громче звучит мне твой зов: «Выйди из Цепи! Выйди без следа, без наследства, без наследника!» Так, господи, я уже слышу тебя. Но еще горько мне разлучение с обманной и горькой сладостью Бытия. Еще страшит меня твое безначалие и твоя бесконечность…»
Да, если бы запечатлеть это обманное и все же несказанно сладкое «бывание» хотя бы в слове, если уже не во плоти!
В древнейшие дни мои, тысячи лет тому назад, мерно говорил я о мерном шуме моря, пел о том, что мне радостно и горестно, что синева небес и белизна облаков далеки и прекрасны, что формы женского тела мучительны своей непостижимой прелестью. Тот же я и теперь. Кто и зачем обязал меня без отдыха нести это бремя — непрестанно высказывать свои чувства, мысли, представления, и высказывать не просто, а с точностью, красотой и силой, которые должны очаровывать, восхищать, давать людям печаль или счастье? Кем и для чего вложена в меня неутолимая потребность заражать их тем, чем я сам живу, передавать им себя и искать в них сочувствования, единения, слияния с ними? С младенчества никогда ничего не чувствую я, не думою, не вижу, не слышу, не обоняю без этой «корысти», без жажды обогащения, потребного мне для выражения себя в наибольшем богатстве. Вечным желанием одержим я не только стяжать, а потом расточать, но и выделиться из миллионов себе подобных, стать известным им и достойным их зависти, восторга, удивления и вечной жизни. Венец каждой человеческой жизни есть память о ней, — высшее, что обещают человеку над его гробом, это память вечную. И нет той души, которая не томилась бы втайне мечтою об этом венце. А моя душа? Как истомлена она этой мечтой, — зачем, почему? — мечтой оставить в мире до скончания веков себя, свои чувства, видения, желания, одолеть то, что называется моей смертью, то, что непреложно настанет для меня в свой срок и во что я все-таки не верю, не хочу и не могу верить! Неустанно кричу я без слов, всем существом своим: «Стой, солнце!!» И тем страстнее кричу, что ведь на деле- то я по устрояющий, а разоряющий себя — и не могущий быть иным, раз уже дано мне преодолевать их, — время, пространство, формы, — чувствовать свою безначальность и бесконечность, то есть это Всеединое, вновь влекущее меня в себя, как паук паутину свою.
А цикады поют, поют. Им тоже оно дано, это всеединое, но сладка их песнь, лишь для меня горестная, — песнь, полная райской бездумности, блаженного самозабвения.
Юпитер достиг предельной высоты своей. И предельного молчания, предельной недвижности перед лицом его, предельного часа своей красоты и величия достигла ночь. «Ночь ночи передает знание». Какое? И не в этот ли сокровенный, высший час свой?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу