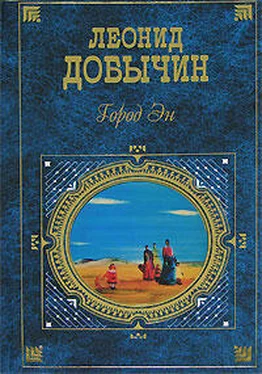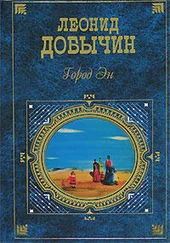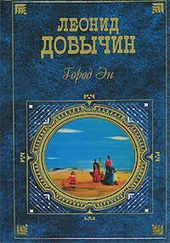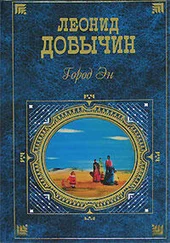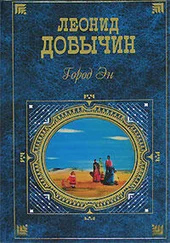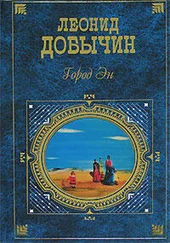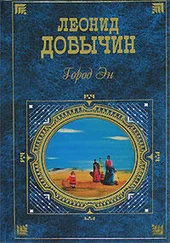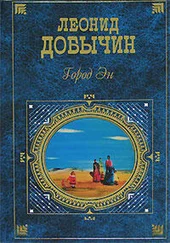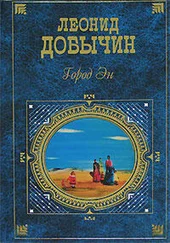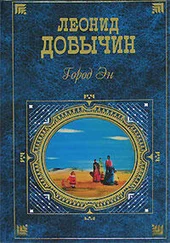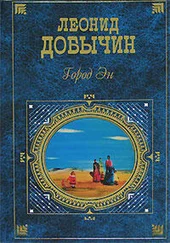Сонных, нас повели в монастырь и кормили там постным. Потом нам пришлось «поклониться мощам», и затем нам сказали, что каждый из нас может делать что хочет до поезда.
С учеником Тарашкевичем я отыскал возле станции кран, и мы долго под ним, оттирая песком, мыли губы. Они от мощей, нам казалось, распухли, и с них не смывался какой-то отвратительный вкус.
После этого мы походили и набрели на «тупик». Изнемогшие, мы улеглись между рельсами. Сразу заснув, мы проснулись, когда начинало темнеть. Мы вскочили и поколотили друг друга, чтобы подогреться и не заболеть ревматизмом.
В вагоне я сел с Тарашкевичем рядом, и он рассказал мне, как жил у Хайновского. Он нанялся к нему летом, когда мне пришлось отказаться от этого. Он мне сказал, что Хайновский любил присмотреть за ученьем, советовал, заставлял детей «лежать кшижом». При этом он время от времени к ним подходил и давал им целовать свою ногу. Я рад был, что я не попал туда.
По понедельникам первым уроком у нас было «законоведенье», и ему обучал нас отец Натали. Он был седенький, в «штатском», в очках, с бородавкой на лбу и с бородкой, как у Петрункевича. Я не отрываясь смотрел на него. Мне казалось, что в чертах его я открываю черты Натали и мадонны И. Ступель.
Наш директор любил все обставить торжественно. К «акту» в гимнастическом зале устроены были подмостки. Над ними висела картина учителя чистописания и рисования Сеппа. На ней нарисовано было, как дочь Иаира воскресла. Наш новый оркестр играл. Хор пел. Подымались один за другим на ступеньки ученики попригожее, натренированные учителями словесности, и декламировали, и в числе их на подмостки был выпущен я.
Мне похлопали. Мне пожал руку Карл Пфердхен и сказал: – Поздравляю. – Меня поманила к себе заместительница председателя «братства». Она сообщила мне, что сейчас же попросит директора, чтобы он ей ссудил меня для выступления в концерте, который будет дан в пользу братства в посту. Пейсах Лейзерах обнял меня. – Ты поэт, – объявил он. Я начал с тех пор хорошо относиться к нему.
Когда вечером я пошел походить, у меня, оказалось, была уже слава. Девицы многозначительно жали мне руки. – Мы знаем уже, – говорили они. Среди них я увидел Луизу, примкнувшую к ним под шумок.
– Я хотела бы с вами, – сказала она мне, – немного поговорить фамильярно. – Она похвалила мою неуступчивость в торге, который у меня состоялся полгода назад с ее матерью. – Сразу заметно, – польстила она, – что у вас есть свой форс.
Обо мне услыхала в конце концов старая Рихтериха, «приходящая немка». Она наняла меня к сыну. Он был моих лет, остолоп, и я скоро от него отказался. Он несколько раз говорил мне, что жалко, что Пушкин убит, и однажды подсунул мне пачку листков со стишками. Он сам сочинил их.
Я снес их в училище и показал кой-кому. Мы смеялись. Ершов подошел неожиданно и попросил их до вечера. Он обещал мне вернуть их за всенощной.
Я вышел из дому раньше, чем следовало, и, дойдя до училища, поворотил. Я сказал себе, что пойду-ка и встречу кого-нибудь.
Я встретил много народа, но я не вернулся ни с кем, а шел дальше, пока не увидел Ершова. Смеясь и вытаскивая из кармана стишки, он кивал мне. Мы быстро пошли. Стоя в церкви, мы взглядывали друг на друга и, прячась за спины соседей от взоров Иван Моисеича, не разжимая зубов, хохотали неслышно.
Потом мы ходили по улицам и говорили о книгах. Ершов хвалил Чехова. – Это, – пожимая плечами, сказал я, – который телеграфистов продергивает?
Он принес мне в училище «Степь», и я тут же раскрыл ее. Я удивлен был. Когда я читал ее, то мне казалось, что это я сам написал.
Я заботился, чтобы у него не пропал интерес ко мне. Вспомнив, что что-то встречалось в «Подростке» про какое-то неприличное место из «Исповеди», я достал ее. – Слушай, – сказал я Ершову, – прочти.
И опять я отправился рано ко всенощной и от училищной двери вернулся и шел до тех пор, пока не увидел его.
– Ну и гусь, – закричал он в восторге, и я догадался, что он говорит о Руссо. Увлеченный, он схватил мою руку, приподнял ее и прижал к себе. Я тихо отнял ее. Он ходил в пальто старшего брата, который окончил училище в прошлом году, и оно ему было немножко мало. Мне казалось, что есть что-то особенно милое в этом. Я дал ему «Пиквикский клуб», рисовал ему даму, зовущую любезных гостей закусить, и тех старцев, которые так оживили когда-то своим появлением пустыню.
В записки, которые я во время уроков ему посылал, я вставлял что-нибудь из «закона» или из «словесности». – «Лучший, – писал я ему, например, – проводник христианского воспитания – взор. Посему надлежит матерям-воспитательницам устремлять оный на воспитуемых и выражать в нем при этом три основные христианские чувства» – или «эта девушка с чуткой душой тяготилась действительностью и рвалась к идеалу». – Затем я ему предлагал побродить со мной вечером.
Читать дальше