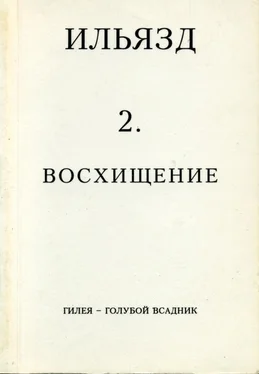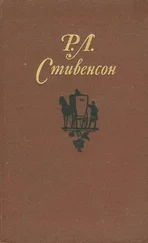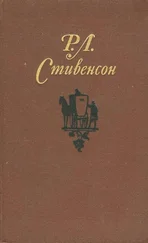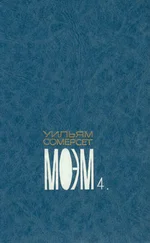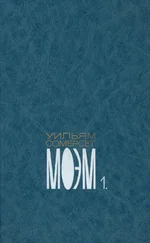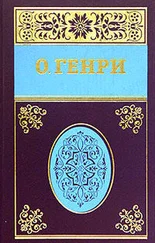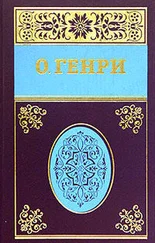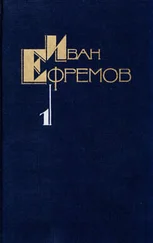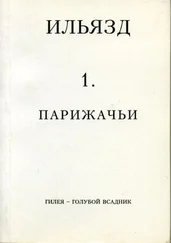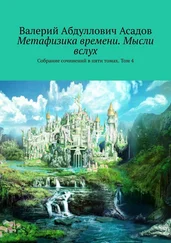Но птица может быть и символом круга времени, и высших законов, от которых невозможно освободиться. Это уже не орел, а другая птица, которая, как мифологический Икар, парит все ближе к солнцу, но носит обратную символику: “С высот, никогда не садящийся на деревья жаворонок сыпал трель вечного повторения” (гл. 7). Конечно, именно с Икаром связан Лаврентий. Ища сокровища, он похож на увлеченного солнцем Икара. Лаврентий тоже хочет быть вольным, выйти из круга внешних обстоятельств, из круга циклической жизни и природы, но это стремление доводит его до смерти. Лунной символике Ивлиты противостоит солнечная Лаврентия.
Несомненно, в основе Восхищения лежит много мотивов, взятых Ильяздом либо из личного опыта, либо из литературной или живописной сферы, либо из мифологической или религиозной области. К числу мотивов, относящихся к личному опыту автора, принадлежат многие этнографические и географические данные. Критикам “Федерации” сам Ильязд написал: “Я переработал в моем романе впечатления, собранные мной в течение долгих путешествий по родному мне Кавказу”. Большую роль в этом играла знаменитая экспедиция, устроенная в 1917 г. профессором Еквтиме Такайшвили по бывшим грузинским землям Турции, в которой Ильязд принял участие в качестве фотографа и рисовальщика. Среди многочисленных подробностей, принадлежащих к кавказскому “фонду” впечатлений, — могилы с изображениями человеческих фигур, вроде тех, которые создает Лука. В 1917 г. Ильязд встречает такие могилы, но под мусульманским полумесяцем и в Турции, у подножия горы Качкар, на которую он совершает восхождение. Он упоминает их в Письмах Моргану Филипсу Прайсу как доказательство грузинского происхождения населения этого края.
Приведем еще несколько примеров. Брат Мокий доходит до ледника, голубого “от кишащих в нем червей. Хотелось бы достать нескольких: отец-настоятель жалуется на запоры и нет, говорит, лучшего средства, чем головки червей этих...” (гл. 1). Источником этого мотива служит встреча в августе 1915 г., во время путешествия Ильи и его отца по Западному Кавказу, с двумя монахами из монастыря Нового Афона. Это было недалеко от ущелья реки Теберды, на краю Клычского ледника. Рассказывая о своем восхождении на вершину горы Качкар на Понтийском хребте во время экспедиции 1917 г., Ильязд упоминает об этой встрече: монахи “плели неслыханные небылицы ‹...› наконец, заявили: “Знаете, почему лед такой голубой? Оттого, что в нем водятся большие белые черви с черными головками”. Отец-настоятель говорил, что если съесть такого червя половину — прочистит желудок, а если всего — умрешь. И в ту же осень старик инженер, работавший на Клухорском перевале, сообщил мне в Тифлисе, что на Клухорском перевале несколько лет назад он видел белых червей с черными головками ‹...›. И услышав теперь в Меретете, в Турции, те же уверения, я уже мог только пожать плечами” [6] Зданевич И. Западный Гюрджистан. Итоги и дни путешествия И. М. Зданевича в 1917 году. — В кн.: Georgica II. Materiali sulla Georgia Occidentale. Под ред. Л. Магаротто и Дж. Скарчиа. Болонья, 1988, с. 47.
. В каждом из вышеуказанных примеров Ильязд выбирает элементы, которые он встречал, против всей вероятности, в совсем разных местах, разных краях. Этот прием повторяется в ряду других мотивов “кавказской” линии. В первую очередь мотив белокурой девушки, спрятанной как сокровище в горном краю, населенном темноволосым народом, относится к тому же самому ущелью Теберды и к той “расе блондинов”, следы которой Ильязд ищет и находит на севере Турции, в окрестностях Эрзерума и даже в Константинополе. Итак, все эти элементы, относящиеся к разным местам, не дают возможности определить точное место действия и дают ему универсальность, которая намного превышает границы того или иного края Кавказа. Более того, многие из элементов “горной” линии романа относятся не только к Кавказу, но и к другим горным странам. Зобатые встречаются во всех уединенных горных местах, как на Кавказе, так и, например, в Альпах. Легенды о том, что после смерти человек буквально “деревенеет”, становится деревом, существуют и на французских Пиренеях, и у жителей Анд. Как неудивительно, но самые фантастические, невероятные элементы повествования относятся к универсальным фактам. Такая мысль не могла не восхитить Ильязда — теоретика “всёчества”, который провозглашал искусство, основанное на общих культурных явлениях, и сказал, что все формы искусства, независимо от места и времени, нам современны.
Читать дальше