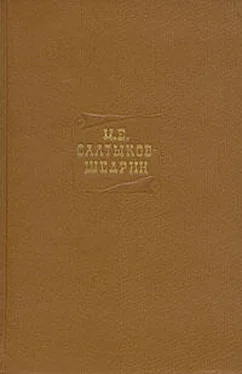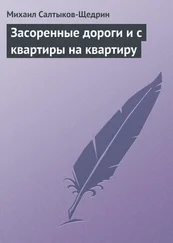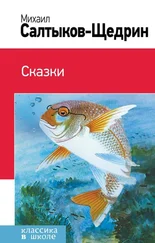Кюмюлирующую (от франц. cumuler) — совмещающую, объединяющую.
Стр. 439. И вдруг времена созрели. — Речь идет о моральном кризисе героя, осознавшего невозможность жить по-старому.
…присутствование в комиссиях «не терпит суеты». — Использована строка из стихотворения А. С. Пушкина «19 октября» — «Служенье муз не терпит суеты».
Дивиденды — часть общей прибыли какого-либо коммерческого предприятия, получаемая пайщиками в зависимости от вложенного капитала.
Стр. 441. Колтовские — Малая, Большая и Средняя Колтовские улицы на Петербургской стороне близ Малой Невки (ныне Пионерская и Средняя Колтовская), населенные в то время преимущественно мелким чиновничеством. См. стр. 641.
Амфитрион — гостеприимный, хлебосольный хозяин.
Стр. 446. Тайный советник — чин 3-го класса, один из высших гражданских чинов в царской России, классом выше чина действительного статского советника.
Стр. 447. Доход неокладной — то есть не облагаемый налогами.
Стр. 448…о мерах, предлагаемых в… «записке» земского деятеля Пафнутьева… — Пафнутьев — собирательный образ представителя дворянской оппозиции, выведенный в очерке «Завещание моим детям» (1866, см. т. 7 наст. изд., стр. 7), а позднее в «Письмах к тетеньке».
Стр. 451. Пощечиться — поживиться.
Клапштосы, карамболь — термины бильярдной игры.
Стр. 456…тирадами из барковских трагедий. — Ироническая характеристика творчества И. С. Баркова, прославившегося порнографическими стишками.
Стр. 464. Шмандткухен (от нем. Smandtkuchen) — сливочное пирожное.
Медок — красное вино, бордо.
Впервые — ОЗ, 1878, № 1 (вып. в свет 25 января), стр. 285–308.
Рукописи не сохранились.
История создания очерка неизвестна. Упоминание в тексте обстоятельств похорон Н. А. Некрасова (см. стр. 476–477) позволяет отнести время создания очерка к январю 1878 г. [62] См. комментарий И. Векслера в изд. 1933–1941, стр. 583.
Текст журнальной публикации содержит цензурную купюру, от слов: «Ничего не знать, ничего не мочь…» до слов: «…выдвигается… гроб» (стр. 480–485). В официальных бумагах цензурного ведомства этот инцидент не отражен. Салтыков рассказывал о нем А. А. Краевскому в письме от 20 января 1878 г.: «Я было заходил сегодня к Григорьеву <���…> но не застал его и от безделья зашел в Цензурный комитет. Слыша великое гудение в комнате присутствия, я вызвал Ратынского, который выбежал в больших попыхах, сказал только: дураки читают вашу статью, — и убежал. Должно быть, там что-нибудь нездорово».
Позднее, 28 марта 1827 г., Салтыков сообщал А. М. Жемчужникову, что цензура «из статьи, помещенной в январской книжке, выдрала 9 страниц, то есть всю внутренность».
В журнальном тексте цензурный пропуск обозначен тремя строками точек. Рецензент газеты «Обзор» писал об этом: «Пересматривая нумерацию страниц, мы заметили, что в статье г. Щедрина не хватает, по крайней мере, страниц пять, замененных летучими цифрами». [63] «Обзор», Тифлис, 1878, № 41, 12 февраля.
Купюра устранена в изд. 1881, что подтверждается сравнением текста с копией изъятых страниц в альбоме М. И. Семевского «Знакомые». [64] «Дворянская хандра». Рассказ М. Е. Салтыкова. Не пропущенный цензурой отрывок в кн. I «Отечественных записок» 1878 г. — Знакомые. Альбом М. И. Семевского, редактора-издателя журнала «Русская старина» 1867–1887, том I, стр. 306 (ИРЛИ).
Не пропущенная цензурой «внутренность» рассказа — это главка, в которой автор обобщил свои наблюдения над эволюцией общественных настроений либерально-дворянской интеллигенции «за последние двадцать лет».
Салтыков рассматривает эти два десятилетия как путь от «всеобщих сований» в годы демократического подъема 50-х годов и «восторгов» по поводу «обновления» в период реформ до возвращения к крепостнической «практике заплечной философии», пресекающей насилием всякую попытку протеста против господствующего режима.
Возрождению принципов «заплечной философии» способствовал своим либеральным оппортунизмом («повадливостью»), а подчас и прямым политическим предательством «современный дворянский человек», который, осознав всю неприглядность прежних основ жизни, только внешне отказался от крепостнического миросозерцания, на деле же продолжает держаться за него.
Среди либералов разных оттенков, выведенных Салтыковым в ряде произведений 70-х годов, герой «Дворянской хандры» ближе всего к типу Провинциала из «Дневника провинциала в Петербурге» (1872) и рассказчику из «Убежища Монрепо» (см. например, главу «Монрепо-усыпальница» в т. 13). Это «стадный человек» из дворянско-либеральной среды, воспитанный на идеалах 40-х годов и застигнутый врасплох наступлением реакции. Разочарованный беспочвенностью и бесплодностью своих прежних «сований», не считая возможным содействовать властям в их реакционной политике, он находит выход в полном удалении от общественной жизни и отправляется доживать дни в свое оскудевшее родовое поместье, как в «гроб», где только и можно найти «настоящее, заправское забвение».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу