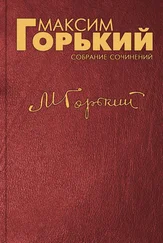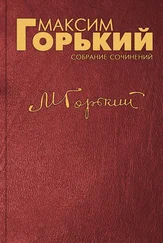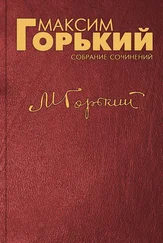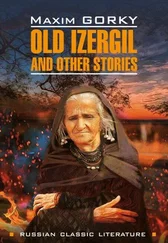Играли в карты, страшно пили водку, порою, обезумев от пьянства и тоски, поражали друг друга дикими выходками.
Однажды вечером сторож Крамаренко, молодой, красивый мужик, подошел под окно квартиры смазчика Егоршина, лысенького н богомольного старика, женатого па сироте-казачке, женщине большой и молчаливой,- подошел, раздался донага и стал орать в окно:
- Егоршин, выходи, собака! Выходи, раздевайся, пусть жена твоя видит; который лучше!
Казачка, стиравшая белье, выплеснула на грудь ему ковш кипятку; он завыл и убежал в степь, а Егоршин начал бить жену гаечным ключом. Люди отняли женщину, хотели отправить ее в город, в больницу, но казачка отказалась.
- Не надо, сама виновата, зачем ласково смотрела на него,- говорила она, лежа на дворе, обмотанная кровавыми тряпками, широко открыв синие глаза и облизывая губы маленьким языком.
И дважды спросила тихонько.
- Больно я его обварила?
- Ой, бесстыжая,- шептались женщины и девицы. Егоршин заперся в квартире и молился, стоя на коленях в луже мыльной воды. Люди смотрели на него, в окно и ругали старика.
Утром на другой день Крамаренко взял расчет и пешком ушел со станции куда-то к Дону; шел он вдоль линии дороги странно прямо, высоко подняв голову, как солдат на параде.
А через несколько дней и Егоршин перевелся на другую станцию.
- Это, брат, не поможет тебе,- сказал ему Колтунов, помощник начальника станции, прощаясь с ним.- Тебе в землю надобно переводиться; от горя никуда, кроме как в землю!..
Это был странный человек - Петр Игнатьевич Колтунов. Всегда полупьяненький, болтливый, он, должно быть. имел какие-то свои догадки о жизни, но выражал их неясно, и даже казалось, что он не хочет быть понятым.
Сухонький, тощий, он постоянно встряхивал вихрастой, рыжей головой и, прикрывая серые глаза золотистыми ресницами, опрашивал нас - меня, весовщика станции, и товарища моего, телеграфиста Юдина, горбатого и злого:
- Какому богу служите, ребята, а? Потеха!
Или вопрошал сам себя:
- Разве я для того родился, чтобы меня комары ели?
Мы, я и телеграфист, часто и горячо говорили о будущем, он смеялся над нами:
- Потеха! Вы спросите меня: что будет через десять лет, в сей день и час? Я вам верно скажу: то же самое! А через двадцать пять? И тогда - то же самое...
Когда я с Юдиным начали читать Спенсера, он, послушав, спросил:
- Англичанин?
- Да.
- Ну, значит, врет! Англичанин правду никогда не скажет.
И не стал слушать Спенсера.
Иногда Колтунова одолевали припадки нелепого упрямства: ом крутил пальцами обгрызенные усы и тоненьким, нервным голосом настойчиво старался убедить нас. что "Пан Твардовский" написан лучше "Фауста", а Тургенев-барышничал лошадьми. Или кричал, высоко взмахивая правой рукою:
- Все наши писатели-не русские: Пушкин - сын араба, Жуковский турчанки, Лермонтов - англичанин! А которые русские, так они все незаконнорожденные...
Он был сын священника из Тургайской области, учился в Тамбовской семинарии.
- Выучился водку пить,- пошел в университет, в Казань,- рассказывал он, и его серые глаза уныло зеленели.- В нетрезвом состоянии души надел профессорову шубу, шапку и пропил сию арматуру. Потеха! Ну, мне предложили освободить университет. Ушел, лет пять присматривался к разным делам и незаметно очутился женат. С того времени - стоп машина!
Жена ушла от него; он жил с дочерью, шестилетней рыженький девочкой, спокойной и серьезной, как взрослый человек. Ее бледное, неподвижное личико словно пряталось в золоте кудрей, темные глазки смотрели на всё сосредоточенно, улыбалась она редко. Всё население станции любило ее какою-то особенной любовью, боязливой и осторожной; мужчины при ней тише ругались, женщины ставили ее в пример своим детям.
- Смотри, вон какая Верочка смирненькая да аккуратная...
Отец звал дочь по имени и отчеству - Вера Петровна; он относился к ней непонятно - с любопытством и как будто с боязнью, за которою скрывалась враждебность.
...По тесным путям станции маневрирует локомотив, входит поезд с Дона или Волги, а Вера Петровна, в белом платочке на золотых кудрях, не спеша идет через рельсы; между локомотивами мелькают ее тонкие ножки в красных нитяных чулках. Она идет в скупую степь собирать бедные цветы, бегать за сусликами с таловым прутом в руке.
Отец следит за нею из окна станции или с перрона и кусает усы, прикрыв золотыми ресницами воспаленные глаза.
- Запретить бы ей ходить по путям,- говорят ему.
Но он равнодушно отвечает:
Читать дальше