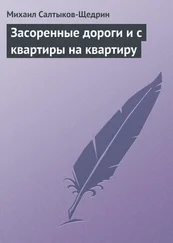И точно: бесстолбие как-то вдруг кануло, и ежели об нем изредка вспоминают и теперь, то для того лишь, чтобы с пылающими от стыда щеками воскликнуть: ужели когда-нибудь был этот позор? Отныне на вас, кабатчики и менялы, покоятся все упования. Вы совершите то, что не сумели свершить даже мы, ваши достославные предшественники: вы с неумолимой логикой проведете принцип умиротворения посредством обездоления. Мы, крепостных дел мастера, как-то задумывались перед громадностью этой задачи. Не скажу, чтобы нас останавливали на этом пути какие-нибудь соображения высшего порядка, но мы все-таки понимали, что если начать обездоливать вплотную, то из этого, чего доброго, в конце концов произойдет обездоление нашей собственной утробы. Вы и в этом отношении поставлены гораздо выгоднее, нежели мы. Арена вашего обездоления так бесконечна и так загадочна, что даже при самой неисповедимой наглости всегда будет казаться, что еще не все вычерпано, что затерялся еще где-то уголок, в котором процесс обездоления не совершил всего своего круга.
Ввиду столь несомненных свидетельств и я, Прогорелов, не имею возможности сомневаться: да, вы грядете – это не тайна и для меня. Но, признаюсь откровенно, уверенность эта не наполняет моего сердца сладкой надеждой, но, напротив, заставляет меня с некоторым трепетом приподнимать завесу будущего и отыскивать там совсем не те ликующие тоны, которые обещают наши охранители и наши публицисты.
Не думайте, однако ж, кабатчики и менялы, что я сгораю к вам завистью и что именно это дурное чувство препятствует мне приветствовать вас. Нет, тут совсем не то. Вот уж двадцать лет сряду, как я состою в звании пропащего человека, и мне кажется, что этого периода времени вполне достаточно, чтобы пролить бальзам забвения на какие угодно сердечные ропоты. На первых порах я действительно волновался и представлял из себя не то невинно-падшего, который успел-таки припрятать в укромном месте кой-какие уцелевшие крохи, не то человека, приведенного в восторженное состояние от беспрерывной молотьбы по голове. Под влиянием свеженанесенной обиды я или ехидствовал, или извергал целые потоки ропотов, причем так бестолково кричал, что не только не вникал в смысл собственных речей, но в большинстве случаев за гвалтом не умел даже хорошенько расслышать их. Но вдруг промелькнула светлая минута. Я вслушался, вник и… покраснел. Я понял, что мой ропот был чем-то нелепым по существу и бесконечно неуклюжим по форме; что по существу я обнаружил только голую алчность, а по форме – только беззаветнейшую невежественность. С тех пор я смирился и замолчал. Изредка, правда, и теперь кое-что сболтну в одном из тех тихих приютов, которые известны под именем земских учреждений, но сболтну неуверенно и как-то невнятно, с пропусками. Точь-в-точь как органчик, которого вал от времени и жестокого обращения утратил три четверти своих колышков.
И знаете ли что еще? С тех пор, как я покраснел и сознал, что титул пропащего человека прекреплен за мной бесповоротно, – я полюбил это скромное звание. Иногда мне даже сдается, что оно близко граничит со званием человека вообще, что в этом качестве ему предстоит хорошая и прочная будущность и что ежели для увековечения родов пропащих людей не будет заведено бархатных и иных книг, то не потому, чтобы люди сии не были того достойны, а потому, что, раз испытав тщету увековечений, они и сами едва ли пожелают их возобновления. Повторяю: я до того примирился с мыслью, что я пропащий человек, что воспоминания минувшей славы уже не пробуждают во мне ни бесплодной горечи, ни несбыточных надежд. Я знаю, что история назад не возвращается, что даже гнусное не повторяется в ней в одних и тех же формах, но или развивается в формы гнуснейшие, или навсегда прекращается, и что, стало быть, Прогореловым – как бы они ни вопияли – повториться в прежних формах (а новых они сами не выдержат) не суждено. Одно меня заботит в моем новом положении: сумею ли я настолько совладать с собою и со своим прошлым, чтобы сделаться воистину порядочным пропащим человеком, то есть человеком долга, добра, чести и труда?
Итак, не по чувству зависти я воздерживаюсь от поздравления вас с приездом, а просто потому, что меня берет оторопь. И не за себя я боюсь – чего уж! из меня всё, даже страх вынули! – но за отечество.
Как ни бесшабашно прошла моя жизнь, однако помаялся-таки я на своем веку, а тем временем кое-что и попристало ко мне. Я, Прогорелов, грамотен – вот в чем суть. Преимущество ли это мое, или злосчастие – всяко можно судить. Это преимущество, потому что грамота помогла мне непостыдно и безболезненно (по крайней мере относительно) перекочевать из категории столпов в категорию пропащих людей; это злосчастие, – потому что грамота же помешала мне всецело отдаться восторгам возрождения и этим самым уподобила мое существование ладье, плавающей по волнам житейского моря без кормила и весла.
Читать дальше