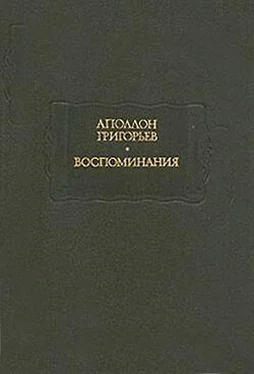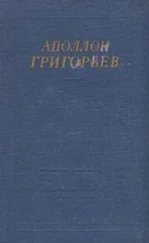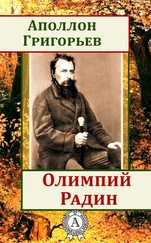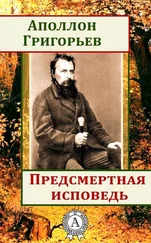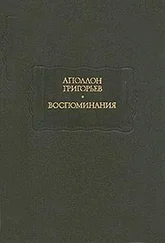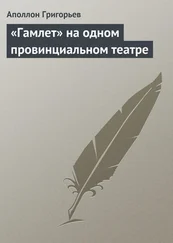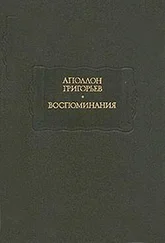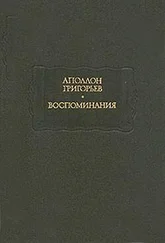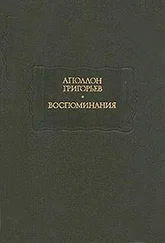Но что за различие между сном и жизнью? Сон, особенно у человека напряженного и нервически расстроенного, – жизнь, создаваемая им самим, жизнь, в которой ему светло и привольно, потому что ее явления совершаются по законам его мысли.
Что за дело, что эта жизнь – обман для других. Обман, обман! Истина для всех – часто обман для одного, и если хотя уже для одного она обман, можно быть уверенным, что будет время, когда она разоблачится для многих… Обман! – но разве не обман всякая перспектива, раскладывающаяся перед нами под сиянием полного месяца и дарящая нас минутами примирения и молитвы, минутами, когда на душе светло и свободно… Истина здесь в одной только целости, в одной стройности и разумности сопоставления предметов: подойди ближе, и предметы, отдельно взятые, тебя разочаруют.
Я давно уже не ищу истины, а ищу счастия, в чем бы оно ни было.
Жаль одного только, по поводу чего я и написал это длинное оправдание обмана, что другие не хотят согласиться со мною. Сказать правду – эта женщина начинает меня мучить. Слезы и вечно слезы – о чем, уж этого я просто не понимаю или, лучше сказать, не хочу понимать. Недоставало одного только, чтобы она мучила меня ревностию. Вероятно, уж следует непременно, чтобы любовь была с ревностью: нет повода – что же за дело? Надобно его создать, а то как же можно обойтись без ревности? Но очень любопытно узнать, к кому она меня ревнует?
Разные драматические положения меня, наконец, бесят. Дай бог и без страстей-то прожить, слыхал я часто от одного почтенного человека, а это еще со страстями. Влюбилась, перелюбилась – и господи! прибавлял он всегда, обыкновенно поднимая руки кверху. Ведь есть же наслаждение мучить себя небывалыми призраками!
Вчера я играл в преферанс с ее мужем и еще с одним, кажется, чиновником же – впрочем, бог его ведает, на лбу не написано… Она сидела подле мужа, смотрела ему в карты и указывала, с чего ходить. Я проигрывал по обыкновению… Один раз ему удалось оставить меня без трех в червях. Он так самодовольно открыл в эту минуту свою серебряную табакерку, так весело прищелкнул ее сбоку, что я смотрел на него с истинным наслаждением.
– Каково мне счастие-то везет, Арсений Федорыч, – сказал он, опрокинувшись на спинку кресел и подмигнувши левым глазом на жену.
– Вы правы, счастие с вами, – отвечал я, не давая заметить, что понял его намек. – Но всегда ли?
– А вот посмотрим – всегда ли? – возразил он с самоуверенною улыбкою и взял, как будто не нарочно, руку жены, лежащую на ручке его кресел.
– Сомнительно, – сказал я с особенною расстановкою. – Восемь в червях!
Она отошла быстро.
– Вы смеетесь надо мною, – прошептала она с нервическою дрожью, когда через полчаса я подошел к ее рабочему столику.
– Это что еще?… – и я с величайшим равнодушием закурил сигару над ее лампой и отошел опять к карточному столу.
Удивительно глупая, но и удивительно добрая, в самом деле, натура ее мужа. Он с нею все еще как на другой день свадьбы. И между тем что же делать, когда мне это очень забавно, забавно до того, что из удовольствия послушать его восторги я не щажу даже этой женщины… Когда он, полузажмурясь, начинает мне в сотый раз рассказывать о своем сватовстве – и доходит до самого эффектного места, до того, когда столоначальник, разбранивши его за неподшивку дела, говорил ему, что он хуже медведя и что где он нашел такую дуру, которая бы за него пошла, – и потом с таким наивным и простодушным смехом спрашивает, дура ли у него Ольга Петровна? – и я с ледяным вниманием слушаю этот рассказ… она… Но что мне за дело?… Она лучше, во стократ лучше, когда страдает чем бы то пи было: я забываю тогда, что она чиновница, забываю, что она без ума от повести «Фрегат Надежда», [16]– я люблю ее в эти минуты. Страдание – апотеоза женщины, хотя, разумеется, есть степень этой апотеозы. Кстати о страдании. Я знал одну женщину, для которой страдание было стихиею. Помню ее, как теперь, высокую и стройную с долгим, болезненным взглядом, с нервическою, по вечною улыбкою на тонких и бледных устах, с странным смехом, как будто ее щекотал кто-нибудь. Я не был влюблен в нее и этому удивляюсь до сих пор, но говорить с нею было для меня потребностию, но я отдал бы много, чтобы говорить с нею опять. Она была осуждена жить в патриархальном семействе, она была осуждена любить своего мужа, потому что он в самом деле был порядочный человек, но за это осуждение наверстывала она таким глубоким, таким самосознательно гордым страданием, что холодному наблюдателю могла бы показаться неправою. И в самом деле, ей, любимой до поклонения всей семьей мужа, ей, верной жене, образцовой матери – стоило бы сказать одно слово, чтобы уничтожить разом все патриархальные обычаи, от которых ее охватывал судорожный трепет, все долгие пытки однообразно-нелепого и добросовестно-однообразного образа жизни, от которого она таяла так заметно, и она никогда не сказала этого слова, и она умерла гордая тем, что не сказала этого слова. Есть натуры, до такой степени нежные, что быть не понятыми один раз в жизни для них страшнее в тысячу раз длинного, томительного страдания… Они до того особны, эти натуры, что им самим странна их особенность, что они сами знают, как все их требования от жизни несогласны с обыкновенным порядком вещей… Они тонки до такой степени, что их раздражают вещи вовсе для других незначительные, и очень хорошо знают это; что им говорить с людьми, которых оскорбить может разве только пощечина, потому что она факт, и факт несомненный?
Читать дальше