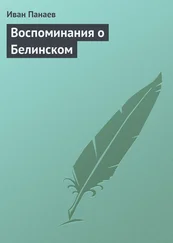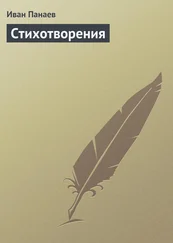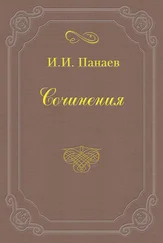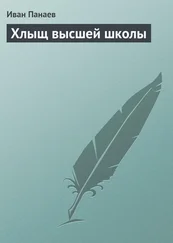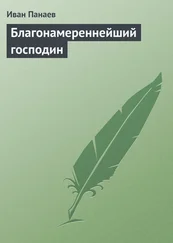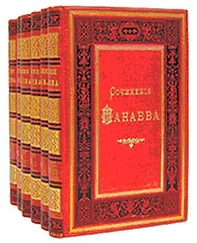— Я не хочу, Victor, — говорила она ему, — чтобы ты был такой мрачный, серьезный, неподвижный… Мне все кажется, что ты сердишься на что-нибудь или чем-нибудь недоволен. Если ты любишь меня, ты должен быть теперь так же весел и счастлив, как я. Ведь ты любишь меня? ну, скажи мне, любишь?.. да?..
Эти вопросы о любви, с которыми приставали к нему, производили на него самое неприятное впечатление… Но в устах жены они казались ему еще неприятнее, чем в устах сестры.
— Что за объяснения! — возражал он со своим обычным холодным достоинством. — Ты знаешь, что я тебя люблю, я знаю, что ты меня любишь. Любовные фразы говорят только в романах и на театре… Порядочные люди любят молча…
— Какой ты несносный, Victor, — перебивала она полушутя, полусерьезно, — что мне за дело до твоих порядочных людей… Бог с ними! Я знаю, что я непорядочная, потому что я не могу скрывать того, что чувствую.
При слове непорядочная Виктора Александрыча как-то всего невольно передернуло, и брови его вдруг сдвинулись.
— Это дурно, очень дурно, — возразил он, сдерживая себя. — Ты не девочка уж, не пансионерка какая-нибудь… Ты имеешь положение в свете.
Лизавета Васильевна от нетерпения хлопала ножкой…
— Ах, как это скучно, мораль! — говорила она, нахмурив брови, но улыбаясь в то же время, — ты меня убиваешь… Отчего ты такой холодный, Victor, скажи мне?
— Ты смотришь на все как-то странно, — отвечал Виктор Александрыч, — для тебя радость должна непременно выражаться смехом, любовь — нежными объяснениями, фразами и ласками, печаль — слезами, и я тебе кажусь холодным потому только, что умею владеть собой; это необходимо, ты скоро сама поймешь это… Людей, которые не умеют владеть собой в свете, называют неблаговоспитанными.
— Положим, — возразила Лизавета Васильевна, — надо уметь владеть собой в свете, положим, что смешно и неприлично обнаруживать свои чувства перед людьми посторонними, но зачем мы будем скрывать друг от друга свои чувства, впечатления, мысли, когда мы вдвоем, когда мы наедине? Я не понимаю этого.
Такого рода разговоры обыкновенно оканчивались замечаниями Виктора Александрыча, что вместо того, чтобы рассуждать, гораздо лучше вести себя так, как ведут все.
Один раз Лизавета Васильевна, которая старалась заметно, с некоторого времени, сдерживать свои внутренние ощущения (она уж не так часто бросалась на шею к супругу), после обыкновенного с ним разговора на минуту задумалась и потом вдруг обратилась к нему:
— Я давно хотела тебя спросить, — сказала она, делая некоторое усилие над собою, — но я не знаю, меня что-то останавливало… у тебя, говорят, есть сестра, а я ничего не знала об этом.
В голосе, которым она произнесла это, было более грусти, чем упрека.
Надобно было пройти сквозь все искусы высшей школы, чтобы не обнаружить при этом неожиданном вопросе ни движением, ни взглядом, ни восклицанием ни малейшего волнения. Вопрос этот кольнул Виктора Александрыча в самое больное место, но он отвечал на это равнодушным и спокойным тоном:
— Кто тебе сказал?..
— Для чего тебе это знать? Впрочем, это мне было передано не за тайну, и я могу тебе сказать кто… но скажи мне прежде, правда это или нет?
Виктор Александрыч отвечал, что у него, точно, была сестра и что она, может быть, жива еще, но вследствие ее ужасного поступка для него она уже более не существует. И он рассказал всю историю ее: как она бежала из родительского дома, убила, отца и мать и прочее.
Лизавета Васильевна не могла скрыть своих ощущений при этом рассказе; сдерживаемые слезы крупными каплями выступали на ее глазах и лились по ее смуглым щекам.
— Отчего же ты мне не сказал об ней прежде? — спросила она с горячностию и волнением, — от меня ты, казалось бы, не должен был скрывать этого…
— Для чего бы я стал говорить об этом! — отвечал он. — Между ею и мною все сношения прерваны; ни я, ни ты, надеюсь, никогда ее не увидим.
Лизавета Васильевна вздрогнула.
— Но если она сделала дурной поступок, — сказала она через минуту, — то это было по увлечению, по страсти. И бог прощает, — неужели же ты никогда не простишь этого сестре?
— Я тебя прошу никогда более не говорить мне об этом, — сказал Виктор Александрыч твердо.
Лизавета Васильевна повиновалась его воле, но этот разговор оставил в ней тяжелое и горькое впечатление, и мысль об этой отверженной долго преследовала ее.
Виктор Александрыч, вначале останавливавший легкими замечаниями порывы и увлечения своей супруги, противоречившие совершенно великосветскому понятию о благовоспитанности, видел, что против этого надобно принять меры более серьезные. Он сознавал опасность этих порывов, если им дать полную волю, необходимость охладить горячность ее сердца, затушить ее идеальные, романтические стремления и не дозволить им развиваться… Виктор Александрыч все глубокие человеческие чувства, все горячие убеждения сердца называл идеальными и романтическими стремлениями… Он понимал необходимость дисциплинировать ее, дать ей практическое направление, перевоспитать на свой манер, подвергнуть ее всем пыткам высшей школы, чтобы сделать из нее настоящую светскую женщину, достойную носить фамилию Белогривовых. Все это было, конечно, не совсем легко, но он успокоивал себя мыслию, что такие характеры, каков был у Лизаветы Васильевны, имеющие много горячности, но мало твердости, легко вспыхивающие, но скоро охлаждающиеся, должны без больших препятствий подчиняться постороннему влиянию, особенно если действовать на них постепенно и не слишком резко.
Читать дальше