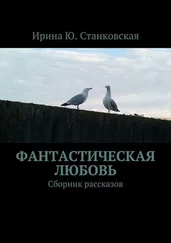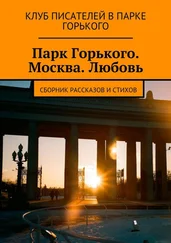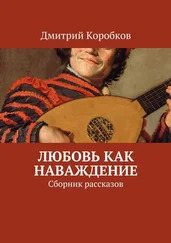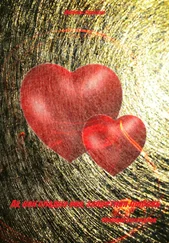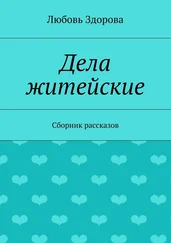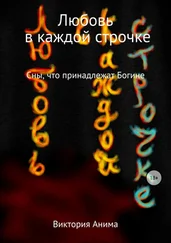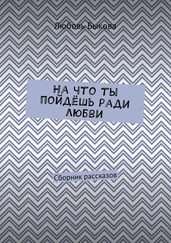Он, московский писатель, думает продолжить роман, помощь кишиневских товарищей для него, прямо скажем, неоценима. Неизмеримо серьезней был удар с другой стороны, не по левой, так сказать, щеке, а по правой. Весной пятьдесят первого года была я участником Второго Всесоюзного совещания молодых писателей, и руководили нашим семинаром Илья Григорьевич Эренбург, Константин Георгиевич Паустовский, Александр Альфредович Бек и Петр Александрович Сажин. Повезло семинарчику! Вот и другие молодые участники, видимо, думали: повезло! Руководил всеми Эренбург - этот пользовался колоссальным успехом. Весь в каких-то заграничных кожах, он выходил в перерыв покурить свою неизменную трубку, и полутемный коридор, коленом загибавшийся к отведенной нам аудитории, тут же заполнялся участниками других семинаров. Эренбург понимал, конечно, что делать им здесь нечего, только разве глазеть на него, и поэтому очень благосклонно и с большим достоинством показывался. Обсуждение наших работ началось с меня: женщину, как известно, следует пропускать вперед при любых обстоятельствах, даже в клетку к разъяренному тигру. Как же они принялись за меня, наши руководители, как ругали! Ругали так, словно никакого социалистического реализма нет и в помине, не существует ни Большой Всемогущей Правды, ни маленькой, жалкой правденки, ругали от имени Ее величества русской литературы. Справедливо ругали. И за пристегнутое ни к селу ни к городу партийное руководство, и за социалистическое переустройство бессарабской деревни, которое, как они полагали, было мне вовсе ни к чему. "Почему вы не написали небольшой повести о радости педагогического труда? - так они меня вопрошали. - Не правда ли, автор так хорошо передает эту радость?" - это они уже друг друга спрашивали, друг с другом говорили. "А какие отличные портреты молодежи! Каков пейзаж, не правда ли?" И вновь обращали ко мне, как к тяжело больному, озабоченные глаза: "Зачем вы все это написали? Вы что сами не чувствуете, что у вас получается, а что - не очень?..". После перерыва обсуждение романа "За Днестром" продолжалось. Последние белые нитки были повыдерганы, все бельишко с чужого плеча вывешено на всеобщее обозрение. Константину Георгиевичу не понравились даже "крупные и женственные руки" одной из героинь, Варьки, - единственное замечание, с которым я позволила себе мысленно не согласиться: это уж наши руководители, по-моему, увлеклись немножко. Ну, а дальше дали слово автору. Автору, как на недавнем обсуждении в Кишиневе, благодарить бы и кланяться, кланяться и благодарить. Я с того и начала, - очень искренно, - что очень всех их уважаю, всех поименно, - и лучшего публициста Великой Отечественной войны Илью Эренбурга, и Александра Бека с удивительным его "Волоколамским шоссе", и честнейшего Константина Паустовского, и Петра Сажина, конечно, - уважаю всех и охотно признаю за ними право судить меня так, как они меня судили, - с точки зрения великой русской литературы и бескомпромиссных ее законов. "Но, повернула я вдруг, - вы что, забыли, что значит напечататься впервые, да не тогда, в двадцатые годы, когда начинали вы, а в наши, пятидесятые, после ждановских докладов?.. Не знаете, что делается в редакциях, как подстраховываются они, и не за ваш счет, а за наш, за счет начинающих? А ведь и нам хочется рано или поздно сказать заветное, свое, - разве ради этого не взойдешь на любую Голгофу?..". Впрочем, я могу не цитировать себя столько. В своей книге "Люди, годы, жизнь" Илья Григорьевич Эренбург так это все вспоминает. "В Москве устроили совещание молодых писателей, мне поручили принять участие в одном из семинаров. Я прочитал десятки рукописей, - повести, романы. Почти во всех были удачные страницы, но чувствовалась скованность. Разговаривая с молодыми прозаиками, я увидел, что они знают жизнь, понимают людей; один признался: "Я сам знаю, что плохо... Но что тут делать - трудно писать роман в стол...". Ну, так вот, - молодой прозаик этот и есть я. И Эренбург, с видимым бесстрастием все это вспоминающий, тогда вовсе не был бесстрастен: он вскочил с места, все наши руководители повскакали со своих мест, целовали мне руки, извинялись, каялись. Что уж я там сказала еще, чем их так проняла?.. И никого уже больше не ругали, никому никакого разгрома не учиняли, так только, иногда, осторожно сетовали. А меня до конца совещания любили очень. Илья Григорьевич зачем-то попросил у меня первый экземпляр повести, - то, что она являла собою в самом начале, - и я, дура стоеросовая, зачем-то ему этот, оставшийся единственным экземпляр отдала.
Читать дальше