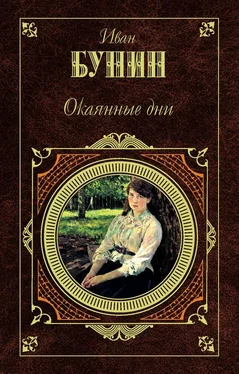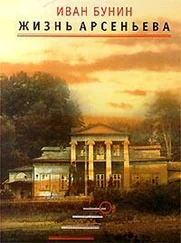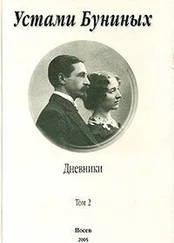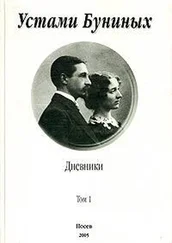Теперь у меня было ещё одно тайное страдание, ещё одна горькая «неосуществимость». Я опять стал кое-что писать, — теперь больше в прозе, — и опять стал печатать написанное. Но я думал не о том, что я писал и печатал. Я мучился желанием писать что-то совсем другое, совсем не то, что я мог писать и писал: что-то то, чего не мог. Образовать в себе из даваемого жизнью нечто истинно достойное писания — какое это редкое счастье! — и какой душевный труд! И вот моя жизнь стала всё больше и больше превращаться в эту новую борьбу с «неосуществимостью», в поиске и уловление этого другого, тоже неуловимого счастья, в преследование его, в непрестанное думанье о нём.
К полудню приходила почта. Я выходил в приёмную, опять видел красиво и заботливо убранную, неизменно склонённую к работе голову Авиловой и всё то милое, что было в мягком лоске её шагреневой туфельки, стоящей под столом, в меховой накидке на её плечах, на которой тоже лоснился отблеск серого зимнего дня, зимнего окна, за которым серело воронье снежное небо. Я выбирал из почты новую книжку столичного журнала, торопливо разрезал её… Новый рассказ Чехова! В одном виде этого имени было что-то такое, что я только взглядывал на рассказ, — даже начала не мог прочесть от завистливой боли того наслаждения, которое предчувствовалось. В приёмной появлялось и сменялось между тем всё больше народу: приходили заказчики объявлений, приходило множество самых разнообразных людей, которые тоже были одержимы похотью писательства: тут можно было видеть благообразного старика в пуховом шарфе и пуховых варежках, принёсшего целую кипу дешёвой бумаги большого формата, на которой стояло заглавие: «Песни и думы», выведенное со всем канцелярским блеском времён гусиных перьев, молоденького, алого от смущения офицера, который передавал свою рукопись с короткой и вежливо-чёткой просьбой рассмотреть её и при печатании ни в коем случае не обнаруживать его настоящей фамилии, — «поставить лишь инициалы, если это допустимо по правилам редакции», за офицером — потного от волнения и шубы пожилого священника, желавшего напечатать под псевдонимом Spectator свои «Деревенские картинки», за священником — уездного судебного деятеля… Деятель был человек необыкновенно аккуратный, он до странности неторопливо снимал в прихожей новые калоши, новые перчатки на меху, новое хорьковое пальто, новую боярскую шапку и оказывался на редкость худ, высок, зубаст и чист, чуть не полчаса вытирал усы белоснежным носовым платком, меж тем как я жадно следил за каждым его движением, упиваясь своей писательской проницательностью:
— Да, да, он непременно должен быть так чист, аккуратен, нетороплив, заботлив о себе, раз он редкозуб и с густыми усами… раз у него уже лысеет этот яблоком выпуклый лоб, ярко блестят глаза, горят чахоточные пятна на скулах, велики и плоски ступни, велики и плоски руки с крупными, круглыми ногтями!
К завтраку нянька приводила с гулянья мальчика. Авилова выбегала в прихожую, ловко присаживалась на корточки, снимала с него белую барашковую шапочку, расстёгивала синюю, на белом барашке, поддёвку, целовала в свежее раскрасневшееся личико, а он рассеянно глядел куда-то в сторону, думал что-то своё, далёкое, безучастно позволяя раздевать и целовать себя, — и я ловил себя на зависти ко всему этому: к блаженной бессмысленности мальчика, к материнскому счастью Авиловой, к старческой тишине няньки. Я уже завидовал всем, у кого жизнь наполнена готовыми делами и заботами, а не ожиданием, не выдумываньем чего-то для какого-то самого странного из всех человеческих дел, называемого писанием, завидовал всякому, кто имеет в жизни простое, точное, определённое дело, исполнив которое нынче, он мог быть совершенно спокоен и свободен до завтра.
После завтрака я уходил. На город густо валил дремотными хлопьями тот великолепный снег, что всегда обманывает своей нежной, особенно белой белизной, будто уж совсем близка весна. По снегу мимо меня бесшумно летел беззаботный, только что, должно быть, где-нибудь на скорую руку выпивший, как бы весь готовый к чему-то хорошему, ладному, извозчик… Что, казалось бы, обыкновеннее? Но теперь меня всё ранило — чуть не всякое мимолётное впечатление — и, ранив, мгновенно рождало порыв не дать ему, этому впечатлению, пропасть даром, исчезнуть бесследно, — молнию корыстного стремления тотчас же захватить его в свою собственность и что-то извлечь из него. Вот он мелькнул, этот извозчик, и всё, чем и как он мелькнул, резко мелькнуло и в моей душе и, оставшись в ней каким-то странным подобием мелькнувшего, как ещё долго и тщетно томит её! Дальше — богатый подъезд, возле тротуара перед ним чернеет сквозь белые хлопья лаковый кузов кареты, видны как бы сальные шины больших задних колёс, погружённых в старый снег, мягко засыпаемый новым, — я иду и, взглянув на спину возвышающегося на козлах толстоплечего, по-детски подпоясанного под мышки кучера в толстой, как подушка, бархатной конфедератке, вдруг вижу: за стеклянной дверцей кареты, в её атласной бонбоньерке, сидит, дрожит и так пристально смотрит, точно вот-вот скажет что-нибудь, какая-то премилая собачка, уши у которой совсем как завязанный бант. И опять, точно молния, радость: ах, не забыть — настоящий бант!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу