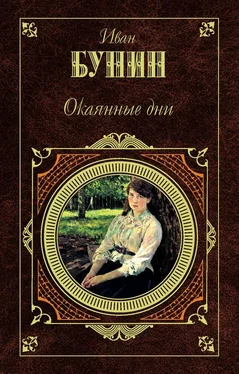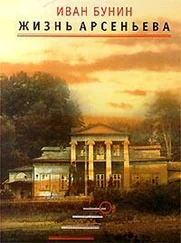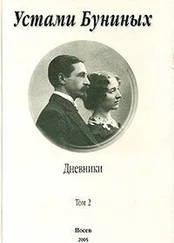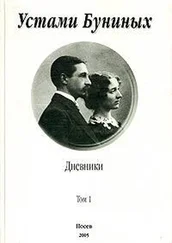Помню как сейчас — я сидел с Олей в её комнате, выходившей окном во двор. Было часов пять солнечного мартовского вечера. Неожиданно, застёгивая полушубок, вошёл с обычной своей бодростью отец, — усы у него были теперь уже седые, но он по-прежнему держался молодцом, — и сказал:
— Нарочный из Васильевского. С Писаревым что-то вроде удара. Сейчас еду туда, — хочешь со мной?
Я поднялся, поражённый счастьем неожиданно попасть в Васильевское, увидеть Анхен, и мы тотчас же поехали. К удивлению нашему, Писарев был здоров и весел, сам дивился и не понимал, что такое с ним было. «А ты всё-таки пей-то поменьше», — сказал ему отец на другой день на прощанье в прихожей. «Пустяки!» — ответил Писарев, усмехаясь своими цыганскими глазами, помогая отцу надеть полушубок, — как сейчас вижу его, стройного, смуглого, чернобородого, в шёлковой косоворотке навыпуск, в чёрных лёгких шароварах и красных, шитых серебром чувяках. Мы спокойно воротились домой, а тут вскоре пошла полая вода, такая спорая и буйная, что наше сообщение с Васильевским недели на две совсем прервалось. На первый день Пасхи стало везде совсем сухо, зазеленели лозинки и выгоны. Мы все собрались ехать в Васильевское и уже вышли садиться в тарантас, как вдруг в воротах показалась лошадь, за ней беговые дрожки, а на них наш двоюродный брат Пётр Петрович Арсеньев.
— Христос воскресе, — сказал он, подъезжая, с каким-то преувеличенным спокойствием. — Вы в Васильевское? Как нельзя более вовремя. Писарев приказал долго жить. Проснулся нынче, вошёл к сестре, сел вдруг в кресло — и каюк…
Писарева только что обмыли и убрали, когда мы вошли в его дом. Он лежал, являя обычную картину покойника, только что положенного на стол, — картину, поражавшую ещё только своей странностью, — в том самом зале, где две недели тому назад он стоял и улыбался на пороге, щурясь от вечернего солнца и своей папиросы. Он лежал с закрытыми глазами, — до сих пор вижу их лиловато-смуглую выпуклость, — но пока совсем как живой, с великолепно расчёсанными, ещё мокрыми смольными волосами и такой же бородой, в новом сюртуке, в крахмальной рубашке, с хорошо завязанным чёрным галстуком, по пояс прикрытый простынёй, под которой обозначились его прямо стоящие связанные ступни. Я спокойно и тупо глядел на него, даже пробовал его лоб и руки — они были почти теплы… К вечеру, однако, всё очень изменилось. Я уже понял, что случилось, и сам не свой вошёл в зал, когда позвали на первую панихиду. В окна зала ещё алел над дальними полями тёмный весенний закат, но сумерки, поднимавшиеся с тёмной речной долины, с тёмных сырых полей, со всей тёмной холодеющей земли, снизу затопляли его всё гуще, в тёмном зале, полном народу, было мутно от ладана, и сквозь эту темноту и муть у всех в руках золотисто горели восковые свечки, а из-за высоких церковных свечей, дымивших вокруг смертного одра красным пламенем, зловеще звучали возгласы священнослужителей, странно сменявшиеся радостно и беззаботно настойчивым: «Христос воскресе из мёртвых». И я пристально смотрел то вперёд, туда, где в дымном блеске и сумраке тускло и уже страшно мерцал как-то скорбно-поникший, потемневший за день лик покойника, то с горячей нежностью, с чувством единственного спасательного прибежища находил в толпе личико тихо и скромно стоявшей Анхен, тепло и невинно озарённое огоньком свечи снизу…
Ночь я спал тревожно и скорбно, одолеваемый всё одними и теми же противоестественно яркими и беспорядочными видениями какого-то суетливого многолюдства, жутко и таинственно связанного с тем, что случилось: всё поспешно — и, что всего ужаснее, как будто под молчаливым руководством самого покойника — ходили по всем комнатам, что-то друг другу торопливо советовали, перетаскивали столы, кресла, кровати, комоды… Утром я вышел на крыльцо как пьяный. Утро было тихое, тёплое, ясное. Солнце пригревало сухое крыльцо, ярко и нежно зеленеющий двор и ещё низкий, сквозной, однако уже по-весеннему сереющий в мягком блеске сад. Но я вдруг взглянул вокруг — и с ужасом увидал совсем рядом с собой длинную, стоймя прислонённую к стене, новую тёмно-фиолетовую крышку гроба. Я сбежал с крыльца, ушёл в сад, долго ходил по его нагим, светлым и тёплым аллеям, сел в аллее акаций на скамейку… Пели зяблики, желтела нежно и весело опшившаяся акация, сладко и больно умилял душу запах земли, молодой травы, однообразно, важно и торжествующе, не нарушая кроткой тишины сада, орали грачи вдали на низах, на старых берёзах, там, где в оливковый весенний дымок сливалась ещё голая ивовая поросль… И во всём была смерть, смерть, смешанная с вечной, милой и бесцельной жизнью! Почему-то вдруг вспомнилось начало «Вильгельма Телля», — я перед тем всё читал Шиллера, — горы, озеро, плывёт и поёт рыбак… И в душе моей вдруг зазвучала какая-то несказанно сладкая, радостная, вольная песня каких-то далёких, несказанно счастливых стран…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу