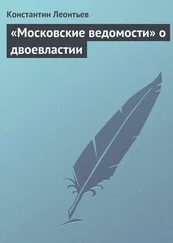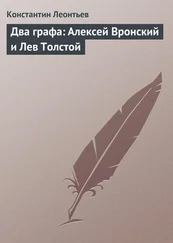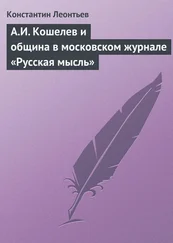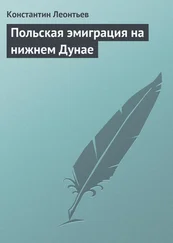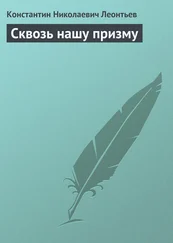И попы в один голос подтвердили:
— Много у тебя злобы, Пан-Дмитриу, а это великий грех!
Тогда лишь он успокоился и ответил, что ему лучше дело свое проиграть на суде у кир-Христаки, чем ходить в мехкеме. Наконец помирили братьев. В хозяйственном деле оправдали старого капитана, только велели ему окно и дверь заделать, поднос отдать и собаку кормить. Посоветовали Александру не обижать и не бесчестить худыми словами.
— Одна семья, один род, — сказал кир-Христаки. — Брату обида, а тебе срам!
— Где ум! Эффенди, где ум? — говорит капитан.
Уж свечерело, когда господа выехали из Вувусы; вооруженные крестьяне опять провожали их до реки сквозь ущелья, кто пешком, а кто и на муле.
Николаки и Алкивиад ехали сзади, и Алкивиад говорил своему спутнику, как это странно и неприятно видеть, что такие эпические герои, как Сульйо и брат его, ссорятся из-за жен, из-за собак и подносов.
Пока они рассуждали об этом, кир-Христаки, Сотири и капитан Сульйо, которые вместе ехали впереди, шопотом совещались о Салаяни. После долгих колебаний капитан Сульйо открыл им, что брат его в дружбе с разбойниками, а жена его еще хуже.
— Любит разбойника! Великую любовь к нему имеет! Деньги, дары, пряжки серебряные от него принимает. За эти-то худые дела я ее и худыми словами звал... За эти дела, эффенди! За эти злодейства.
— А муж знает? — спросил кир-Христаки.
— Этого я не знаю наверное и потому не скажу. Опасаюсь греха! — сказал Сульйо.
Сотири заметил на это, что как мужу не знать. Хитрее деревенских наших кто на свете есть? Злодеи люди! Все знают. Сказано — греки, природную мудрость имеют.
Долго совещались три старика. Совещались и на другой день в городе, куда Сульйо приходил нарочно для этого. Он просил только не обличать, не губить брата, и кир-Христаки поклялся ему, что все будет кончено без вреда и опасности.
Сульйо вернулся, и через несколько дней послали и за Панайоти.
Архонт долго говорил с ним, затворившись, с глазу на глаз, стыдил и уговаривал его, но не стращал ничем.
Он говорил ему о том, что стыдно греку, когда его люди рогачом зовут и смеются над ним.
Панайоти ответил, что злые люди говорят много худых речей и что не он и не жена его в грехе, а злые люди.
Этим разговор их и кончился.
Но кир-Христаки не перестал с того дня размышлять о том, как бы уговорить Панайоти, чтоб он предал своего друга.
XVIII
Через несколько дней после суда в Вувусе Алкивиад решился поехать на север Эпира. Его побуждали к этому два чувства вместе: желание видеть весь край, короче узнать дух своих соплеменников и надежда яснее понять степень своей любви вдали от Аспазии, от ее тихого кокетства, вдали от Петалы и от ревности. Долго странствовал он по Эпиру верхом; Парасхо отпустил с ним Тодори, и само турецкое начальство давало ему в провожатые конного жандарма, везде, где он предъявлял письма от каймакама рапезского и от дяди Ламприди. Конечно, за ним тайно следовали; но ничего особенно предосудительного в его поведении не нашли; тайные агенты турецкого начальства доносили о нем разноречиво: одни говорили, что он там и сям проповедует союз с Турцией, другие, что он поет охотно революционные песни и говорит иногда: «Когда бы здесь у людей было больше энергии, то давно бы и эта прекрасная страна стала Грецией!» Но к таким словам турки до того привыкли, что и не обращают на них внимания.
Алкивиад видел и слышал, и испытал многое за эти Два месяца. Он спал и в ханах, на простой рогожке, с узлом платья под головой. На него лился дождь и падали камешки, когда был сильный ветер; ночевал и в уютных и чистых жилищах разжившихся где-нибудь на чужбине селян, и в богатых архонтских домах в Янине и в Загорах под шелковыми тяжелыми одеялами, и в домах суровых сулиотов, в которых, как в ханах, не было ни очагов хороших, ни потолка, ни стекол на окнах, а только крыша и под крышей нагие жерди, закопченные дымом. Янину он нашел живописной, хотя и несколько унылой. Свободному греку, привыкшему к движению Афин и корфиотской эспланады, показался грустным этот город. Он стоит в долине, между высокими горами, на берегу широкого озера. Улицы Алкивиад нашел очень тихими; по ним очень редко проезжала шагом карета бея или паши; колокола христианские здесь не звонили. Многие дома таинственно крылись за высокими оградами, по которым стелился высоко и густо древовидный плющ... Везде иноверные солдаты в шальварах и фесках и громкий крик ходжей с минаретов. Тихими вечерами, внимая этому величавому крику, Алкивиад думал о нетерпимости и ужасах древнего ислама.
Читать дальше