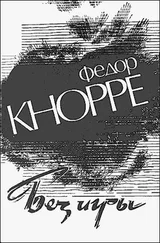Нет, был еще один случай в их жизни, когда он с удивлением почувствовал, что она сильнее его. Это было всего три дня назад, когда он, старый опытный врач, с глазами, покрасневшими от бессонницы, дрожащими руками готовил для нее шприц для ненужной, бесполезной уже инъекции, а она, взглянув на него терпеливыми, усталыми глазами, сделала чуть заметный знак: "Не нужно". Он сурово и непреклонно продолжал приготовления с уверенным видом (он умел обращаться с нервными больными). И вот тогда-то она, вместо того чтобы спорить, покорно улыбнулась и прикрыла глаза, точно сказала: "Ну, если тебе так будет легче..." И он, приготовившийся деспотически побороть любое сопротивление, не считаясь ни с какими там нервами или переживаниями, делать свое дело до конца, вдруг опустил руки, сгорбился и медленно уронил свою большую, тяжелую голову на одеяло, чувствуя, как ее сухая, покрытая морщинками рука медленно поползла, точно на гору, едва касаясь, по его щеке и, так и не добравшись до самого верха, слабо погладила седые и жесткие волосы у виска...
А после этой сумасшедшей истории на лестнице все пошло хорошо и гладко, и она всегда была около него, и поэтому он снова перестал мало-помалу думать о ней. Он вовсе не хотел сбивать ее с хороших, только немного порывистых и восторженных решений, какие бывают у слабых людей. Нет, все вышло как-то само собой. Он-то крепко стоял на обеих ногах, а она была слабенькая. Вероятно, и с его твердой поддержкой ей нелегко было бы в жизни, а получилось так, что бороться ей приходилось больше всего со своей любовью к нему, с ним самим, с его желаниями, интересами. А с ним она совсем не умела бороться, ничего не умела от него отстоять...
Она всегда была с ним рядом, и ему всегда казалось, что впереди еще много времени, когда он успеет подумать о ней. И вот теперь времени у него сколько угодно, и он сидит и думает о ней. Теперь, когда ничего нельзя изменить, даже сказать, объяснить. Даже подушку поправить, даже нагнуться поднять ей моток шерстяных ниток, которые она постоянно роняла, даже сахар помешать в ее чашке ложечкой - ничего...
Давно наступили сумерки, потом темнота, потом в саду за окном зажегся фонарь, и в комнате посветлело, а он все сидел и думал, думал.
Наконец он почувствовал, что колени ему чем-то тепло пригревает, и понял, что маленькая такса жены давно, тихонько посапывая, лежит у него, как лежала всегда на коленях жены. Он покосился вниз и увидел рыжеватую мордочку с обвислыми ушами, вздохнул. Почему-то ему не захотелось ее тревожить, и он так и остался сидеть, глядя, как за окном, в свете фонаря, мокрые листья на кустах смородины, отброшенные порывами ветра с дождем, дрожали на натянувшихся стебельках, точно на зеленых веревочках, отгибаясь все сильней, перевертывались светлой подкладкой вверх и потом вдруг повисали, успокоенно покачиваясь до нового порыва ветра.
Так прошел этот вечер и ночь и еще много вечеров и ночей.
Собак при доме стало больше прежнего. Кроме маленькой, состарившейся таксы с больной лапой в будке давно уже жил мордастый рыжий такс и красивая, не очень породистая овчарка со своим уже совсем беспородным щенком.
Днем, когда старый хозяин уезжал на работу, в саду становилось пустынно и тихо. Тени деревьев, покачиваясь, ложились пятнами на мягкую траву, полную стрекотанья и влажного запаха зелени.
Овчарка со сдержанным изяществом играла со щенком, перевертываясь на спину и снисходительно покусывая его маленькую голову, умещавшуюся у нее в пасти, потом встряхивалась и отходила в сторону.
Щенок шел и заваливался спать на такса, терпевшего это с неизменным добродушием сытого, всем довольного и слегка придурковатого здоровяка.
Старая маленькая такса терпеливо ждала наступления вечера, а потом уходила на макушку маленького заросшего травой холмика и садилась на задние лапы, приподняв повыше морду, чтоб трава не мешала ей видеть дальний конец пыльной дачной улицы, откуда должен был появиться хозяин.
Вечером громко звякала щеколда и появлялся хозяин, осторожно протискивая свой толстый живот в узенькую калитку, и собаки бежали его встречать.
Щенок суетился у него под ногами, изо всех сил тянул и слюнил, стараясь оторвать, шнурки от ботинок; овчарка, приветливо и сдержанно улыбаясь, терлась головой о его колено, радуясь его возвращению, а такс, который просто любил всякий шум и толкотню, весело подскакивал на кривых лапах и, когда его отталкивали, не переставал веселиться и мчался впереди всех к дому, болтая ушами, языком и толстым хвостом.
Читать дальше