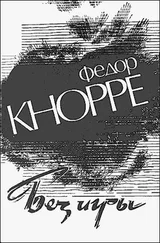Он видел не раз, как плакали девушки. Иногда из-за него, иногда не из-за него, но у него на груди, это называлось "плакать в жилетку" и считалось смешным. При этом он испытывал скуку, раздражение, снисходительную легкую жалость, чаще всего смесь всех этих чувств с преобладанием какого-нибудь одного из них.
Теперь к горлу комок подступал, стоило вспомнить, как она плакала, как вдруг попросила увезти ее "оттуда", как все тут же постаралась смазать жалкой, шуточной детской припевкой.
Все было так, как будто люди, стучавшиеся к нему своими слезами, жалобами, болью, не могли достучаться, встречали плотный заслон, сквозь который им было не прорваться, и только ее тихий плач в последний день в аллее около больницы прошел сквозь все его бетонные заслоны, как сквозь паутину, прямо к его живому, вздрагивающему сердцу, или что там есть, все равно как его называть.
Но в этом-то не было ничего удивительного - ведь он знал теперь, что ее любит, она нашла, открыла к нему этот прямой путь. Странно другое: она как будто открыла путь и другим! Он уже не мог вспоминать и думать легко, безжалостно, с равнодушием и насмешкой о всех, кого он знал, кого обидел, кому не помог, позабыл, отвернулся прежде.
Не было у него на совести никаких таких особенно гадких, грязных поступков, из тех, что могут обсуждаться коллективом. Особенных не было, а неособенные, обыкновенные были, сколько хочешь. Взвешенные на весах, вроде тех, на которые въезжают груженные зерном автомашины, они казались чем-то невесомым, пухом, легкими житейскими неприятностями. Взвешенные на точных, вроде аптекарских, весах, оказывались тяжкими и непростительными. И вот теперь вдруг вместо снисходительных прежних включились в нем тонкие весы, и показания их оказались постыдные, впору в отчаяние прийти.
Одна история с паспортом, который он пришел выманивать, хитро выуживать, стоила хорошей, полновесной подлости.
С тяжелым усилием он отворачивал в другую сторону свои мысли, точно грузную барку, упираясь шестом в дно. И вдруг вспоминал загорелую, с крутым подъемом тонкую щиколотку ее ноги, как она лежала на расстоянии двух спичечных коробок от его глаз на горячем песке. Он хотел тогда... потянуться и поцеловать, но удержался. Чтоб она не очень-то воображала о себе? Кажется, что-то в этом роде... Не поцеловал. Проклятый дурак.
Он стал теперь выключать радио, когда музыка начинала его трогать. Если б он мог отдать это ей, он бы отдал. Или разделил с ней. А слушать без нее, одному? К черту. И щелкал выключателем.
"Хорошо, - говорил он, как будто она могла слышать, - я плохой человек, наделал много стыдного, но ведь бывает, что любят очень скверных людей!
Я тебя люблю. Если бы ты была мальчиком, я бы тебя все равно любил. Если бы ты была мальчиком, который, нагнувшись, поправил туфлю, быстро выпрямился, спрыгнул с дюны, подбежал и я бы увидел твои глаза, полные этого радостного ожидания жизни, беззащитной доверчивости, ты была бы моим маленьким братишкой, я бы тебя так оберегал. От всего плохого. Всю жизнь. И так бы любил тебя...
Только бы ты осталась жить. Может быть, ты чуточку меня бы когда-нибудь потом полюбила?"
Асфальтированная площадка перед четвертым корпусом, садовые скамейки, жестяные урны, стертая ступенька, фонарь над входом с черными точками набившейся за стекло мошкары - все это стало знакомо ему, как стены собственной комнаты, лампа на письменном столе и корешки книг на полке.
Каждый вечер подолгу, до темноты он курил, сидя на той скамейке, с которой сквозь стеклянные двери видны были освещенная стена вестибюля и угол прилавка раздевалки.
Часы были неприемные, тихие, двери отворялись редко, и он всегда сразу замечал, как Александр Иванович появлялся у раздевалки - видна была только его голова и руки, когда он их поднимал, стягивая рукава узкого для него белого халата.
Потом он надевал плащ, слегка кланялся, надевал на ходу шляпу, толкал входную дверь и, глядя себе под ноги, спускался по ступенькам.
Уронив недокуренную или незажженную сигарету, Артур медленно поднимался и шел к нему навстречу. Не останавливаясь, они шагали рядом к выходу из парка.
- Состояние в общем удовлетворительное, - говорил, не дожидаясь вопроса, Александр Иванович. И это было все.
Они шли рядом по аллее, потом по улице и, спустившись в метро, прощались. "До завтра?" - "До завтра". И назавтра он опять сидел на лавочке в сумерках, потом в темноте, не отрывая глаз от стеклянного верха двери, за которым видны были наизусть выученный край прилавка, желто-белая стена с голубой полоской, головы и взмахивающие руки людей, когда они стаскивали халаты и надевали пальто.
Читать дальше