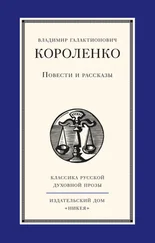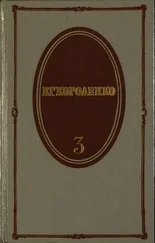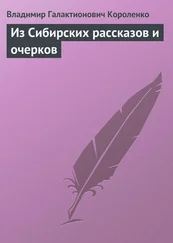II
Напившись чаю, Василий опять уселся против огня. Ему нельзя было еще ложиться: приходилось выждать, пока остынет его лошадь, чтобы спустить ее к сену. Якутская лошадь не особенно сильна, зато удивительно нетребовательна; якут доставляет на ней масло и другие припасы на дальние прииска или в тайгу к тунгусам, на дальний Учур [3] Учур — река, приток Алдана, впадающего в Лену. (Примеч. В.Г.Короленко.)
, проходя сотни верст по местам, где нечего и думать о запасах сена. Приехав на ночевку в дикой тайге, он разгребает снег, разводит костер, а стреноженных лошадей пускает в тайгу; привычный конь добывает себе из-под снега высохшую прошлогоднюю траву и наутро опять готов для утомительного перехода.
Но при этом у якутской лошади есть одна особенность: ее нельзя кормить тотчас после поездки, и перед отправлением в путь сытую лошадь тоже выдерживают без пищи иногда в течение суток и даже больше.
Василию нужно было выждать часа три. Я тоже не ложился, и мы сидели оба, изредка перекидываясь словами. Василий, или, как он уже привык называть себя, Багылай, то и дело подкладывал в огонь по одному полену. Это в нем сказывалась местная привычка, приобретенная в течение длинных вечеров якутской зимы.
— Далеко! — сказал он вдруг после долгого молчания, как будто отвечая собственной мысли.
— Что это? — спросил я.
— Наша-то сторона, Расея… Здесь вот все не по-нашему, что ни возьми. Взять хоть скотину, лошадь, к примеру: у нас лошади, ежели приехал на ней, первым делом требуется пища, а эту вот накорми горячую — подохнет. Как тепло станет, сейчас у ней в сердце сделается льдина, и кончено! Тоже и народ взять: живут по лесу, конину жрут, сырое мясо едят, падаль, прости господи, и ту трескают… тьфу! Стыда у здешнего народа нисколько нету: вынь в юрте у них кисет с табаком, и сейчас, сколько ни есть тут народу, всякий к тебе руку тянет: давай!
— Что ж, это у них обычай, — возразил я. — Зато и сами они дают. Ведь вот помогли же вам завести хозяйство.
— Помогли, правда.
— Довольны вы своею жизнью? — спросил я, вглядываясь в лицо бродяги.
Он как-то загадочно улыбнулся.
— Да, жизнь… — сказал он, помолчав и подбрасывая в огонь новое полено.
Пламя осветило его лицо: глаза глядели тускло.
— Эх, господин, ежели рассказать вам!.. Не видал я в жизни своей хорошего и теперь не вижу. Только и видел хорошего до восемнадцати лет. Ладненько тогда жил, пока родителей слушал. Перестал слушаться — и жизнь моя кончилась. С самых тех пор, я так считаю, что и на свете не живу вовсе. Так… бьюсь только понапрасну.
По красному лицу бродяги пробегают тени, и нижняя губа нервно вздрагивает, как у ребенка, точно он на это время опять возвратился к тому возрасту, когда «слушался родителей», точно вновь стал ребенком, только этот ребенок готов теперь расплакаться над собственною разбитою жизнью!
Заметив, что я пытливо гляжу на него, бродяга спохватился и тряхнул головой.
— Ну, да что тут… Не хотите ли лучше послушать, как мы с Соколиного острова бежали?
Я, конечно, согласился и всю ночь до рассвета прослушал рассказы бродяги.
III
В летнюю ночь 187* года пароход «Нижний Новгород» плыл по водам Японского моря, оставляя за собой в синем воздухе длинный хвост черного дыма. Горный берег Приморской области уже синел слева в серебристо-сизом тумане; справа в бесконечную даль уходили волны Лаперузова пролива. Пароход держал курс на Сахалин, но скалистых берегов дикого острова еще не было видно.
На пароходе все было спокойно и тихо. На рубке виднелись освещенные луной фигуры лоцманов и дежурных офицеров. Огни из люков трепетали, отражаясь на темной поверхности океана.
«Нижний Новгород» шел с «грузом арестантов», назначенных на Сахалин. Морские уставы вообще очень строги, а на корабле с подобным грузом они еще строже. Днем арестанты посменно гуляли по палубе, оцепленные крепким караулом. Остальное время они проводили в своих помещениях под палубой.
Обширная камера под низко нависшим потолком… Свет проникает днем сквозь небольшие люки, которые выделяются на темном фоне, точно два ряда светлых пуговиц, все меньше и меньше, теряясь на закругленных боках пароходного корпуса. В середине трюма оставлен проход вроде коридора; чугунные столбы и железная решетка отделяют этот коридор от помещения с нарами для арестантов. В проходе, опершись на ружья, стоят конвойные часовые. По вечерам тут же печально вытянутою линией тускло горят фонари.
Читать дальше