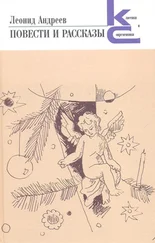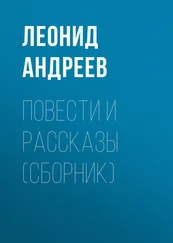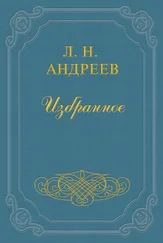К личности как таковой Андреев вновь обращается в повести «Мои записки» (1908). Это произведение, в котором напряженная философская полемика, поэтически восходящая к Достоевскому и Вольтеру [57] См.: Силард Л. Некоторые проблемы жанра философской повести. — Studia Slavica Hungaricae, XX, 1974, fasc. 3–4.
, ведется от лица антигероя — узника, приговоренного к пожизненному заключению за ужасное в своей жестокости преступление. Замечательно стилизованное, слово персонажа способно обмануть читателя, сбить его с толку, но эту игру в «правду» и «ложь» автор затевает неспроста. Игра очень серьезна, и ставка в ней — опять же человеческая жизнь, ищущая в сознании героя свой смысл. Читатель вынужден сам разбираться (включая в игру и свое сознание, а, стало быть, и свою жизнь), убийца ли автор записок; прав ли он теперь, когда открыл «формулу железной решетки», утверждающую целесообразность несвободы, или раньше, когда, в первые годы заключения, страдал и бился головой о стену; за кого сам Андреев — за него или за художника К., покончившего с собой в тюрьме? Ведь писатель не приводит своего героя к внутренней коллизии (как, например, Керженцева), — напротив, финал — добровольное его заточение — становится апофеозом его идеи.
В «Моих записках» Андреев блестяще продемонстрировал, как напряжением воли и ухищрением ума человек, оказавшийся лицом к лицу с Некто в сером, может приучить себя к мысли о его законности, даже о его величии и красоте. «Формула железной решетки» — это любая «система успокоения» [58] Это выражение Н. Бердяев использовал для характеристики толстовства: «Толстовская религия и философия есть отрицание трагического опыта, пережитого самим Толстым, спасение в обыденности от провалов, от ужасов всего проблематического. Какое несоответствие между грандиозностью исканий и той системой успокоения, к которой они привели» (Бердяев Н. Sub specie aeternitatis. СПб., 1907, с. 254–255). Восторженное преклонение почитателей перед «Учителем» — героем «Моих записок» может быть намеком на Толстого, но это, конечно, символ, подразумевающий множество конкретных интерпретаций. См., например, одну из них в статье Л. Силард «Великий инквизитор» Л. Андреева, или «душегрейка новейшего уныния» (Studia Slavica Hung., XX, 1974, f. 3–4). Теория «железной решетки» трактуется здесь как пародия на богостроительство Горького и Луначарского.
, которой слабый человеческий разум отгораживается от неразрешимых и гнетущих загадок бытия. Самому Андрееву, безусловно, ближе художник К., единственно возможным способом — самоубийством — нарушающий незыблемый закон тюремной «справедливости», обожествленный героем «Записок».
На 1906–1908 годы приходится пик популярности Леонида Андреева. В это время окончательно определилась содержательная направленность его творчества, проблематика его произведений, которую теперь мы с уверенностью определили бы как «экзистенциальную». Главным предметом поисков писателя сделалась художественная форма, способная адекватно отразить и выразить новое для русской литературы содержание. В драме «Анатэма» (1909), продолжившей тему богоборчества, Андреев попытался осуществить синтез «схематизма» — художественного принципа «Жизни Человека» и «Царя Голода» — и психологизма. Однако ажиотаж, поднявшийся вокруг этой пьесы, был вызван, главным образом, возмущением в богословских кругах, увидевших в «Анатэме» слишком произвольную интерпретацию Евангелия. С художественной же точки зрения новый андреевский опыт оказался не столь заметным и скорее неудачным. Андрей Белый писал: «Впечатление „Анатэма“ производит, но только тогда, когда видишь пьесу на сцене. Бесподобен г. Качалов: он создал образ, который и не снился Андрееву… Если бы разыграть Кантову „Критику чистого разума“, облечь основоположения рассудка в сюртуки, кафтаны и лапсердаки, право, получилось бы нечто еще более „странное“, чем „Анатэма“» [59] Белый А. Арабески. Книга статей. М., 1911, с. 500.
.
Следующая драма Андреева, «Океан» (1910), уже изначально несценична. Большие по объему, содержательно насыщенные авторские ремарки, привносящие мерный, завораживающий ритм, яркие средства словесной выразительности превращают эту «пьесу для чтения» в подобие романтической поэмы. Ее герой — ницшеанский «сверхчеловек», предстающий в образе безжалостного пирата, скитающегося в морских пространствах в поисках Солнца, своего стихийного первоначала. Идейно-эмоциональная организация этого произведения такова, что позволяет заподозрить автора в симпатии к индивидуалистическому имморализму, в восторженной идеализации «воли к власти», противостоящей здесь — как Океан суше — филистерству земной «правды» с ее христианскими догмами. Но тут легко ошибиться и не заметить трагедии: как Океан и суша неразделимы в своем противоречии, так и душа Хаггарта, героя драмы, обитающая где-то на самой кромке моря, разорвана надвое музыкой церковного органа и глухими вздохами волн.
Читать дальше

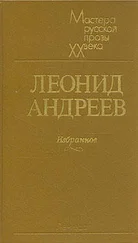
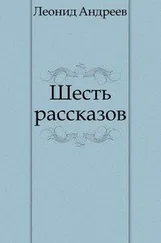





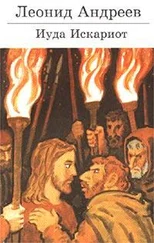
![Леонид Андреев - Повести и рассказы [litres]](/books/401954/leonid-andreev-povesti-i-rasskazy-litres-thumb.webp)