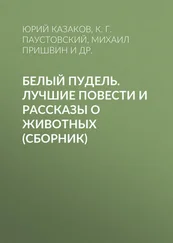И уже ничего не остерегаясь, я начинаю кулаками изо всей силы стучать в калитку. Кричу, отворите! Отдельные удары сливаются в один сплошной гул, вся улица всеми своими пустыми заборами отзывается на этот гул, я сам утопаю в нем и уже не слышу своего крика. Больно рукам, но я стучу все яростнее, калитка, забор, вся улица гудит, как деревянный мост, по которому вскачь проносится пожарный обоз, — и вот мелькает желтоватый свет, пробивается в щель, скользит по ветвям, неровно колышется. Идут с фонарем! Я перестаю стучать. Свет все ближе. Уже слышны шаги и тихие голоса — подходят! Сердце колотится от страха и ожидания: что-то пугающее есть в тихих голосах, колеблющемся неровном свете. Остановились за калиткой, непонятно медлят; но вот звенят ключи, целая связка, гремит запор — и яркий свет ударяет мне в глаза, калитка открылась. Калитка открылась, и за порогом ее — мой, мой тюремный надзиратель с лампочкой в руке и рядом с ним его помощники. Мой надзиратель! Откуда он здесь? — я сразу ничего не могу ни сообразить, ни понять. Куда же я приехал? Куда же я сейчас так стучал? В моей камере темно, а оба они, надзиратель и его помощник, ярко освещены, и за ними освещенный коридор, но мне все еще кажется, что я не в камере, а на той самой улице, и что это не дверь в мою камеру открылась, а та страшная и таинственная калитка. Кажется, я крикнул:
— Кто это?
Оба они, освещенные, все еще стоят за порогом и удивленно смотрят на меня, и надзиратель говорит:
— Что это вы, Сергей Сергеич, что вы так стучите? А я лампу к вам несу, вдруг слышу — что за стук! Лампу возьмите, а сейчас и кипяток будет. Не надо так стучать, нехорошо!
И вот лампа в моей руке, и вот с привычным стуком захлопывается дверь; да, это моя камера! Да, я в своей камере — и больше нигде.
…Таков был мой сон или то, что называют сном. Так, уйдя — я вернулся; так после долгого и мучительного блуждания по кругам я завершил последний круг — и постучался в двери моей же тюрьмы.
I
День полета начался при счастливых предзнаменованиях. Их было два: луч раннего солнца, проникший в темную комнату, где спал с женой Юрий Михайлович, и необыкновенно светлый, полный таинственных и радостных намеков, волнующий сон, который приснился ему перед самым пробуждением.
Юрий Михайлович Пушкарев был опытный офицер-пилот; это значило, что в течение полутора лет он уже двадцать восемь раз — ровно столько, сколько было ему лет, — поднимался на воздух и все еще был жив, не разбился, не переломал себе ног и рук, как другие. Лучше, чем все, чем даже жена его, он знал цену этой смешной и маленькой опытности, обманчивому спокойствию, которое после каждого счастливого возвращения на землю точно отнимало память о прежних чужих несчастьях и делало близких людей излишне уверенными, излишне спокойными — пожалуй, даже жестокими немного; но был он человек мужественный и не хотел думать о том, что расслабляет волю и у короткой жизни отнимает последний ее смысл. «Упаду так упаду, — думал он, — что ж с этим поделаешь; а может быть, до тех пор и машину сделают такой, что падать не надо, вот я и обману смерть, проживу до старости, как другие. О чем же гадать?»
И, думая это про себя, он улыбался той своей спокойной улыбкой, за которую так любили его и уважали товарищи. Но жил в его теле кто-то еще, кто не поддавался увещаниям, твердо знал свое, был не то мудр, не то совсем без разума, как зверь, — и этот другой страшился страхом трепетным и темным, и после удачного полета этот другой становился глупо счастлив, самоуверен и даже нагл, а перед полетом каждый раз мутил душу, наполнял ее вздохами и дрожью. Так же было и в этот раз, накануне июльского полета.
Вечером, перед сном, Юрий Михайлович нежно и тихо погулял с женой по окраинным темным и зеленым улицам маленького городка, где они временно жили; и уже в половине одиннадцатого, когда в доме еще возились, лег в постель и сразу уснул. Он слышал смутно, как через час или полтора пришла жена, разделась тихо и легла, даже не скрипнув кроватью; потом, долго или коротко, спустя, что-то широкое заходило над головою и спокойным, из края в край переливающимся гулом раздвинуло пределы узкого, темного комнатного сна. Он догадался, что это зашла ночная гроза, но совсем не проснулся, а только скинул с себя то тяжкое, как узы, тупое и мертвое оцепенение, каким страх боролся против мыслей и неизбежного. Вдруг задышалось глубоко и сладко: как будто следило дыхание за переливами грома в высоте и шло за ним из края в край; и стало казаться в долгой грезе, что он не человек спящий, а сама морская волна, которая, то падая, то поднимаясь, дыша ровно и глубоко, вольно катится по безбрежному простору. И вдруг открылся тот радостный смысл, что есть в беге волны по безбрежному простору, когда, то падая, то поднимаясь, идет она в глубокую беспредельность. И уже долго он был волной, и уже разгадал все таинственные смыслы жизни, когда зашумел частый дождь по крыше и тихим плеском окропил грудь, поцеловал сомкнутые уста, приник тепло к глазам и принес кроткое забвение. А потом, долго или коротко спустя — уже птицы звенели за окном — привиделся и тот радостный, волнующий сон, который уже третий раз в жизни посещал его и был каждый раз счастливым предзнаменованием.
Читать дальше







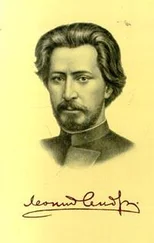
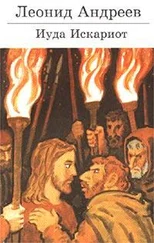
![Леонид Андреев - Повести и рассказы [litres]](/books/401954/leonid-andreev-povesti-i-rasskazy-litres-thumb.webp)