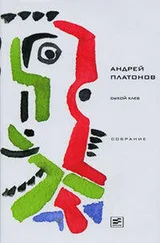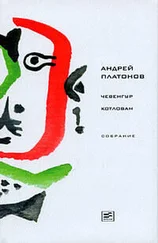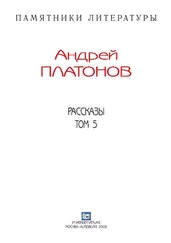— Не понимаете! — сказал Фосс. — Немецкая машинка лучше. Зачем нужны плохие? У вас горит электричество, а не свечка: электричество лучше.
— Почему же немецкая машинка лучше всех?
— Вам сейчас будет ясно. Немцы берут вашу землю, а не вы у нас берете.
— После войны это будет еще яснее, — сказал я врагу, смущаясь такой поверхностной ясности.
— Ваша часть прежде была где-то под Воронежем? — спросил я, обратившись к своим бумагам.
— В самом Воронеже, — уточнил Фосс.
— Вы там умертвили наше гражданское население…
— Это было рационально, — сознался Фосс. — Мы не могли пассивно тратить пищевые калории. Вам теперь тоже не надо кормить в Воронеже стариков-старух…
— А у вас есть старая мать?
Фосс вздрогнул; я нашел в нем человеческое качество.
— Не беспокойтесь о ней, — пообещал я противнику. — Наш маршал сказал — мы воюем с вашей армией, с вашим государством, а не с вашими родителями.
— Он так сказал? — обрадовался Фосс; он верил в начальство.
В этом Курте Фоссе была какая-то часть человека, но не весь человек; он был подобен телу о двух измерениях: оно не может существовать; и Фосс не мог бы существовать, если бы не находил свою временную, мучительную устойчивость в войне, в истреблении людей, не подобных себе. Они уничтожили как раз то, чего им самим недоставало и без чего они погибнут неминуемо, если даже оставить их в покое.
Он не допускал в жизни тайны и глубины, которая бывает темной и смутной, нужно напрягать зрение и сердце, чтобы разглядеть истину во тьме и вдали. Для него все было известно, ясно, и мир, где он был еще затемнен, нуждался только в германской рациональности и четкости, когда «плохие машинки» будут обслуживать «хорошие машинки».
Я сказал ему, что человек имеет больше свойств, чем полагает Фосс: у человека столько свойств, сколько граней в окружности. Фосс вовсе не понял меня; он воооще едва ли понимал какое-либо другое существо; его научили, и он сам был склонен к такой науке — не понимать, а уничтожать непонятное и тем решать задачу. Я ему не мог объяснить, что только за гранью себя, за чертою «ясного и понятного», может начинаться нечто значительное. Животные, не понимая, глубоко и верно ощущают разнообразие, глубину и важность природы; этот же человек, кроме себя и себе подобного, все остальное считал излишним, вредным, глупым и враждебным.
— Мы — критика чистого разума, вооруженного огнем, — сказал мне Фосс, вспомнив чужую фразу.
— Чистый разум есть идиотство, — отрезал я ему. — Он не проверяется действительностью, поэтому он и «чистый» — он есть чистая ложь и пустодушие…
Я теперь понял Фосса как интеллектуального идиота; этот человеческий образ существует давно, он был и до фашизма, но тогда он не был государством.
В комнату вошла моя помощница, лейтенант административной службы Нина Подгорова, — большая, добрая и наивная молодая женщина, прекрасная, как явление природы.
Смутный страх прошел по лицу Курта Фосса. Он всмотрелся в вошедшую женщину, исследовал все, что зримо на ней, н сжался в угрюмом равнодушии. Ему чужда и непонятна была открытая теплая одушевленность вошедшей женщины, и он не любовался ею, как можно любоваться небом или растением, а угрюмо сожалел, что она сейчас недоступна ему для господства и наслаждения.
Я потерял всякий интерес к пленному Курту Фоссу и приказал Подгоровой увести его.
Затем я подумал о мальчике, который живет сейчас с матерью в Воронеже в земляной щели. Возможно, что этот Фосс и командовал той истребительной или комендантской ротой, которая расстреляла отца того мальчика. Для ребенка фашист — убийца отца — был таинственным, даже значительным существом; ребенок воображал его в соответствии со своей одаренной душой, тогда как о фашисте и помыслить интересного нечего, его можно только уничтожить и забыть.
Я задумался о судьбе оставленного мною в Воронеже ребенка. Враждебные, смертельно угрожающие силы сделали его жизнь похожей на рост слабой ветви, зачавшейся в камне, где-нибудь на скале над пустынным и темным морем. Ее рвет ветер и смывают штормовые волны, но ветвь должна противостоять гибели и одновременно разрушать камень своими живыми, еще неокрепшими корнями, чтобы питаться из самой его скудости, расти и усиливаться, — другого спасения ей нет. Эта слабая ветвь должна вытерпеть и преодолеть и ветер, и волны, и камень: она — единственное живое, а все остальное — мертвое, и когда-нибудь ее обильные, разросшиеся листья наполнят шумом пустой воздух мира, и буря в них станет песней.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу