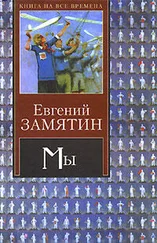Это — Русь, и тут они водились недавно — тут, как я огороженной Беловежской Пуще, они еще водятся: «всехдавишь» — медведи-купцы, живые самовары-трактирщики, продувные ярославские офени, хитроглазые казанские «князья». И над всеми — красавица, настоящая красавица русская, не какая-нибудь там питерская вертунья-оса, а — как Волга: вальяжная, медленная, широкая, полногрудая, и как на Волге: свернешь от стрежня к берегу, в тень и, глядь, омут…
В городе Кустодиеве (есть даже Каинск — неужто Кустодиева нету?) прогуляйтесь — и увидите такую красавицу, Марфу — Марфу Ивановну. Кто ж родителей ее не знавал: старого мучного рода, кержацких кровей, — жить бы им да жить и по сей день, если бы не поехали масленицей однажды кататься. Лошади были — не лошади: тигры, да и что греха таить — шампанского лошадям для лихости по бутылке подлили в пойло. И угодили сани с седоками и кучером — прямо в весеннюю прорубь. Добрый конец!
С той поры жила Марфа у тетки Фелицаты, игуменьи — и спела, наливалась, как на ветке пунцовый анис.
Рядом по монастырскому саду из церкви идут: Фелицата — с четками, вся в клобук и мантию от мира закована, и Марфа — круглая, крупитчатая, белая. На солнце пчелы гудят, и пахнет — не то медом, не то яблоком, не то Марфой.
— Ну что ж, Марфа — замуж-то не откладывай. Яблоко вовремя надо снимать, а то птица налетит — расклюет, долго ли до греха!
Была в миру Фелицата, кликали ее Катей, Катюшенькой — и знает, помнит.
Ездят женихи к Марфе — да какие: тузы! Сазыкина взять — богатей первейший, из кустодиевских — Вахранееву одному уступит. Отец его из Сибири, говорят, во время оно в мороженых осетрах два пуда ассигнаций вывез, и не совсем, будто, тут ладное было — ну, да ведь деньги не меченые. Не речист, правда, Сазыкин и не первой уж молодости и чем-то на Емельяна Пугачева сдает — да зато делец, каких поискать.
Ездит и сам Вахрамеев, градской голова — по другой жене вдовец: будто к Фелицате ездит (еще Катей ее знал), да все больше с Марфушей шутит. Как расправит свою — уже сивую бороду, да сядет вот так, ноги расставив, руками в колени упершись, перстнем поблескивая, да пойдет рассказывать — краснобаек у него всегда карманы полны — ну, тут только за бока держись!
А тетка торопит Марфу — чует, недолго уж жить самой:
— Ты, Марфа, — чего тут думать: к такому делу ум — как к балыку сахар. Ты билетики с именами сделай — да вот сюда, к Заступнице, на полочку. Что вынется — тому и быть.
Вахрамеева вынула Марфа — и камень с сердца: тот-то, Сазыкин, темный человек, Бог с ним. А Вахрамеев — веселый, и отца ее знал — будет теперь ей вместо отца.
Как сказала Фелицата Сазыкину, какое от Заступницы вышло решенье ничего, промолчал Сазыкин, в блюдце с вареньем глядя. Только вытащил из варенья муху — поползла, повизгивая, муха — долго глядел, как ползла.
А наутро узнали: тысячного своего рысака запалил в ту ночь Сазыкин.
И зажила Марфа в вахрамеевских двухэтажных палатах, что рядом с управской пожарной каланчой. Как пересаженная яблоня: привезут яблоню из Липецка — из кожинских знаменитых питомников — погрустит месяц, свернутся в трубочку листья, а садовник кругом ходит, поливает, окапывает — и глядишь, привыкла, налилась — и уж снова цветет, пахнет.
Как за особенной какой-нибудь яблоней — Золотым Наливом — ходит Вахрамеев за Марфой. Заложит пару в ковровые сани — из-под копыт метель, ветер — и в лавку: показать «молодцам» молодую жену. Молодцы ковром стелются — ходи по ним, Марфуша. А покажется Вахрамееву, чей-нибудь цыганский уголь-глаз искрой бросит в нее — только поднимет Вахрамеев плеткой правую бровь — и поникнет цыганский глаз.
Ярмарка — на ярмарку с ней. Крещенский мороз, в шубах — голубого снегового меху — деревья, на шестах полощутся флаги; балаганы, лотки, ржаные, расписные, архангельские козули, писк глиняных свистулек, радужные воздушные шары у ярославца на снизке, с музыкой крутится карусель. И, может, не надо Марфе фыркающих белым паром вахрамеевских рысаков, а вот сесть бы на эту лихо загнувшую голову деревянную лошадь — и за кого-то держаться — и чтоб ветром раздувало платье, ледком обжигало колени, а из плеча в плечо — как искра…
По субботам — в баню, как ходили родители, деды. Выйдут — пешком, такой был у Вахрамеева обычай — а наискосок, из своему дому, Сазыкин — тоже в баню. Вахрамеев ему через улицу — какие-нибудь свои прибаутки:
— Каково тебя Бог перевертывает? В баню? Ну — смыть с себя художества, намыть хорошества!
Читать дальше