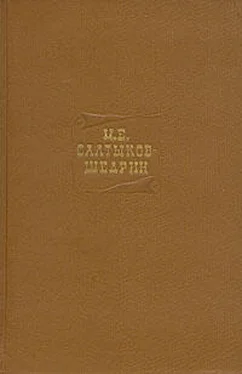Так развивается мысль Салтыкова, вызывая к жизни вслед за «Общим обзором» очерки «Тревоги и радости в Монрепо», «Монрепо — усыпальница», «Finis Монрепо» и публицистически-обобщающее «Предостережение». Объединенные целостным сюжетом, глубокой идейно-художественной концепцией, очерки «Убежище Монрепо» являются своеобразными главами того типа романа, который в течение ряда лет теоретически и художественно утверждался писателем и образцами которого являются «История одного города», «Дневник провинциала в Петербурге», «Господа Головлевы», «Современная идиллия» [245].
«Убежище Монрепо» включает в себя широкий круг тем и проблем общественно-политического, экономического и психологического плана. Тут взят, говоря словами Салтыкова, «целый период нашей жизни», хотя повествование об этом периоде и состоит «как бы из отдельных рассказов». «Вещь совершенно связная», чуждая фактографического пристрастия фельетона к «происшествиям дня», «Убежище Монрепо» одновременно включает в себя и публицистико-«злободневное» очерковое начало, выявляя характерную для сатирического романа Салтыкова диалектику жанровых тенденций.
В «Убежище Монрепо» нашли свое дальнейшее идейно-художественное развитие и образную конкретизацию типы, занимавшие писателя и ранее: «культурного человека» (владелец «Монрепо»), «чумазого» (Разуваев), «нового» бюрократа (Грацианов), служителя церкви («батюшка»). Особой сложностью отличается характерный для многих жанров художественной публицистики Салтыкова образ рассказчика — «исповедывающегося» владельца Монрепо, вмещающий в себя различные, нередко взаимоисключающие начала: рассказчик — «я», сближающийся в чем-то с самим Салтыковым, образ во многом автобиографический (особенно в «Общем обзоре»); «культурный человек» в разных его обличиях — пореформенный помещик, тщетно пытающийся «возродиться» и уступающий свои позиции буржуазии, либерал, легковесная оппозиционность которого улетучивается при первом натиске реакции; «человек сороковых годов», стыдящийся «двоегласия» современности, сторонящийся «ликующих» хищников, но сознающий свою «неумелость» и предпочитающий «непостыдное умирание»; экс-столп корнет Прогорелов, самокритически взирающий на свое прошлое и метко изобличающий новоявленных хозяев жизни, — вот некоторые из граней «многоликого» образа рассказчика.
Автор, он же и объект сатиры — таковы крайние точки диапазона, в пределах которого совершаются многочисленные перевоплощения повествующего лица.
Подобная разноплановость делает недопустимым одностороннее толкование образа повествователя, абсолютизацию какого-то одного начала, игнорирование его «многоликости».
Содержательный, а не формальный принцип должен быть положен и в основание разграничения голосов «я» с целью установления, где говорит сам автор, а где — объективированный персонаж. Автор говорит везде и всегда — и тогда, когда выступает от своего «я», и тогда, когда «работает» голосом персонажа, подчеркивая с помощью разных художественных средств степень своего «несогласия» с ним и тем самым косвенно формируя у читателя представление о собственном взгляде на вещи.
Переход авторского «я» в «я» персонажа и наоборот осуществляется в основном на границе образно-художественного и отвлеченно-логического. В сценах, картинах, диалогах «я» «прикидывается» типичным представителем обличаемого мира, достойным собеседником Грацианова, Разуваева, «батюшки». В последующих или же предваряющих обобщенно-публицистических «рассуждениях», в ответственно-формулировочных высказываниях слово, как правило, берет сам Салтыков. Так, авторский голос хорошо различим в итоговых характеристиках «культурного человека», в отступлении о людях сороковых годов, в аттестациях «современности» — « жизни с двойнымдном » — и «взбаламученного моря» «литературы», в «комментариях» к только что изображенной сцене с участием кабатчика Прохорова, в «тезисах» «мечтаний на тему о величии России», в публицистических «добавлениях» к эпизоду с разуваевским «туго набитым бумажником», в отступлении по поводу «модного слова» « сочувствователь » и «московской топительной программы», в «удивлениях» по поводу разуваевской «мудрости», выраженной знаменитым — «ён доста-а-нит!». В зависимости от того, в какой роли выступает повествующее лицо, заметно меняются и регистры собственно авторского «голоса»: снисходительная ирония над пытающимся хозяйствовать владельцем Монрепо; саркастическая издевка над дворянским либералом, охваченным «тревогами» самосохранения; горькое трезвое слово в адрес «умирающего» «сорокадесятника» — «рохли»; бескомпромиссный суд над крепостных дел мастером Прогореловым…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу