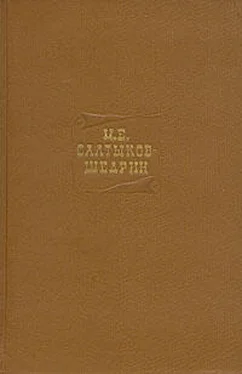— А кто виноват? кто над родительским благословением надругался? — сам виноват, сам именьице-то спустил! А именьице-то какое было: кругленькое, превыгодное, пречудесное именьице! Вот кабы ты повел себя скромненько да ладненько, ел бы ты и говядинку и телятинку, а не то так и соусцу бы приказал. И всего было бы у тебя довольно: и картофельцу, и капустки, и горошку… Так ли, брат, я говорю?
Если б Арина Петровна слышала этот диалог, наверно, она не воздержалась бы, чтоб не сказать: ну, затарантила таранта! Но Степка-балбес именно тем и счастлив был, что слух его, так сказать, не задерживал посторонних речей. Иудушка мог говорить сколько угодно и быть вполне уверенным, что ни одно его слово не достигнет по назначению.
Одним словом, Степан Владимирыч проводил братьев дружелюбно и не без самодовольства показал Якову-земскому две двадцатипятирублевые бумажки, очутившиеся в его руке после прощания.
— Теперь, брат, мне надолго станет! — сказал он, — табак у нас есть, чаем и сахаром мы обеспечены, только вина недоставало — захотим, и вино будет! Впрочем, покуда еще придержусь — времени теперь нет, на погреб бежать надо! Не присмотри крошечку — мигом растащат! А видела, брат, она меня, видела, ведьма, как я однажды около застольной по стенке пробирался! Стоит это у окна, смотрит, чай, на меня да думает: то-то я огурцов не досчитываюсь, — ан вот оно что!
Но вот наконец и октябрь на дворе: полились дожди, улица почернела и сделалась непроходимою. Степану Владимирычу некуда было выйти, потому что на ногах у него были заношенные папенькины туфли, на плечах старый папенькин халат. Безвыходно сидел он у окна в своей комнате и сквозь двойные рамы смотрел на крестьянский поселок, утонувший в грязи. Там, среди серых испарений осени, словно черные точки, проворно мелькали люди, которых не успела сломить летняя страда. Страда не прекращалась, а только получила новую обстановку, в которой летние ликующие тоны заменились непрерывающимися осенними сумерками. Овины курились за полночь, стук цепов унылою дробью разносился по всей окрестности. В барских ригах тоже шла молотьба, и в конторе поговаривали, что вряд ли ближе масленицы управиться со всей массой господского хлеба. Все глядело сумрачно, сонно, все говорило об угнетении. Двери конторы уже не были отперты настежь, как летом, и в самом ее помещении плавал сизый туман от испарений мокрых полушубков.
Трудно сказать, какое впечатление производила на Степана Владимирыча картина трудовой деревенской осени, и даже сознавал ли он в ней страду, продолжающуюся среди месива грязи, под непрерывным ливнем дождя; но достоверно, что серое, вечно слезящееся небо осени давило его. Казалось, что оно висит непосредственно над его головой и грозит утопить его в разверзнувшихся хлябях земли. У него не было другого дела, как смотреть в окно и следить за грузными массами облаков. С утра, чуть брезжил свет, уж весь горизонт был сплошь обложен ими; облака стояли словно застывшие, очарованные; проходил час, другой, третий, а они всё стояли на одном месте, и даже незаметно было ни малейшей перемены ни в колере, ни в очертаниях их. Вон это облако, что пониже и почернее других: и давеча оно имело разорванную форму (точно поп в рясе с распростертыми врозь руками), отчетливо выступавшую на белесоватом фоне верхних облаков, — и теперь, в полдень, сохранило ту же форму. Правая рука, правда, покороче сделалась, зато левая безобразно вытянулась, и льет из нее, льет так, что даже на темном фоне неба обозначилась еще более темная, почти черная полоса. Вон и еще облако подальше: и давеча оно громадным косматым комом висело над соседней деревней Нагловкой и, казалось, угрожало задушить ее — и теперь тем же косматым комом на том же месте висит, а лапы книзу протянуло, словно вот-вот спрыгнуть хочет. Облака, облака и облака — так весь день. Часов около пяти после обеда совершается метаморфоза: окрестность постепенно заволакивается, заволакивается и, наконец, совсем пропадает. Сначала облака исчезнут и все затянутся безразличной черной пеленою; потом куда-то пропадет лес и Нагловка; за нею утонет церковь, часовня, ближний крестьянский поселок, фруктовый сад, и только глаз, пристально следящий за процессом этих таинственных исчезновений, еще может различать стоящую в нескольких саженях барскую усадьбу. В комнате уж совсем темно; в конторе еще сумерничают, не зажигают огня; остается только ходить, ходить, ходить без конца. Болезненная истома сковывает ум; во всем организме, несмотря на бездеятельность, чувствуется беспричинное, невыразимое утомление; одна только мысль мечется, сосет и давит — и эта мысль: гроб! гроб! гроб! Вон эти точки, что давеча мелькали на темном фоне грязи, около деревенских гумен, — их эта мысль не гнетет, и они не погибнут под бременем уныния и истомы: они ежели и не борются прямо с небом, то, по крайней мере, барахтаются, что-то устраивают, ограждают, ухичивают * . Стоит ли ограждать и ухичивать то, над устройством чего они день и ночь выбиваются из сил, — это не приходило ему на ум, но он сознавал, что даже и эти безымянные точки стоят неизмеримо выше его, что он и барахтаться не может, что ему нечего ни ограждать, ни ухичивать. *
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу