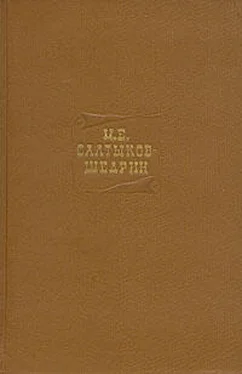Но, по мере нашего социального и интеллектуального развития, глаза наши все больше и больше раскрывались. И, наконец, раскрылись до того широко, что мы всю Россию поделили на два лагеря: в одном — благонамеренные и благонадежные, в другом — неблагонамеренные и неблагонадежные. А так как это деление последовало не на основании твердых фактических исследований, а просто явилось ответом на требование темперамента * , взбудораженного преимущественно крестьянской реформой, то весьма естественно, что на первых же порах произошла путаница.
Наружных признаков, при помощи которых можно было бы сразу отличить благонамеренного от неблагонамеренного — нет; ожидать поступков — и мешкотно и скучно. А между тем взбудораженный темперамент не дает ни отдыха, ни срока и все подсказывает: ищи! Пришлось сказать себе, что в этой крайности имеется один только способ выйти из затруднения — это сердцеведение.
Явился запрос на сердцеведение — явились и сердцеведы. Мало того, явились и помощники сердцеведов из числа охотчих людей: публицисты, кабатчики, мелкие торгаши, старшины, писаря, церковники…
Все это я выяснил себе очень хорошо, но, к сожалению, никакой пользы от этих разъяснений для себя не извлек. Главное, у меня не было уверенности, что я сам-то благонамеренный. То есть я-то, собственно, очень твердо понимал себя таковым, но не знал, как оно выйдет перед судом сердцеведения.
Что я имел повод питать в этом отношении сомнения — в этом убеждал меня батюшка. Даже и он отозвался обо мне как-то надвое. Сначала сказал: доброкачественно, а потом присовокупил: только вот «свобода»… Только? И это, так сказать, с первого взгляда, а что же будет, если поискать вплотную? Да, «мудрый» так не поведет дела, как я его вел! «Мудрый» покажет, что нужно, — и сейчас в кусты! А я? Впрочем, что же я, в самом деле, такое сделал?
И ничего, и очень много — как посмотреть! И пятнадцать лет тому назад, и как будто только вчера — тоже как посмотреть. Тысяща лет яко день един — для таких проказ, пожалуй, и данности не полагается. «Свобода»! — «право, даже смешно! Как это язык у меня повернулся? как он не отсох! А главное, как мне не пришло в голову заменить «свободу» — улучшением быта? А теперь расплачивайся!
И вот, несмотря на обнадеживания батюшки, я беспокойно скитался по аллеям своего парка и сравнивал. Сравнивал прошедшее с настоящим, маршировку с сердцеведением. И дошел наконец до такого абсурда, что склонился на сторону маршировки…
Наконец однажды поздно вечером ко мне на мызу прибежал батюшка и возвестил: приехал!
Явился вопрос об этикете: кому сделать первый шаг к сближению? И у той, и у другой стороны права́ были почти одинаковы. У меня было богатое дворянское прошлое, но зато настоящее было плохо и выражалось единственно в готовности во всякое время следовать куда глаза глядят. * У «него», напротив, богатое настоящее (всемогущество, сердцеведение и пр.), но зато прошлое резюмировалось в одном слове: куроцап! Надо было устроить дело так, чтобы ничьему самолюбию не было нанесено обиды.
По всестороннем обсуждении, мы остановились на следующем плане. И я и «он» сойдемся в доме батюшки. Завтра, в одиннадцать часов утра, я, как будто гуляя, зайду к батюшке, а в то же самое время и «он», как будто гуляя, придет туда же. И, таким образом, произойдет приятный сюрприз.
Все именно так и случилось: без шума, без пререканий, легко, приятно. Батюшка был прав: наш становой не только не напоминал собой Савву Оглашенного, но даже и на станового почти совсем не походил. Это был человек лет тридцати, сухощавый, легкий на ногу, с манерами настолько добропорядочными, что, казалось, он даже понятия не имел о сквернословии. Мундирчик (совсем неожиданного для меня покроя) сидел на нем как вылитый, делая на талии ловкий перехват; мне показалось даже, что он стукнул шпорами, когда я вошел. По-французски он не говорил, но некоторые русские слова произносил в нос и этим вводил в заблуждение. Сверх того, он помадил волосы и, что всего трогательнее, назывался Милием Васильевичем Грациановым.
Отнесся он ко мне отлично; выразился, что давно искал случая со мной познакомиться, и хотя условно, но все-таки признал за мной некоторые литературные заслуги. Но при этом, разумеется, слегка пожурил за то, что я, в первое время моей литературной деятельности, слишком обобщал понятие о куроцапстве и даже приписывал ему какое-то почти должностное значение.
— Быть может, и в настоящую минуту, видя меня, вы мысленно восклицаете: «Вот куроцап!» — прибавил он, словно угадывая, что происходило в глубинах моего сердца.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу