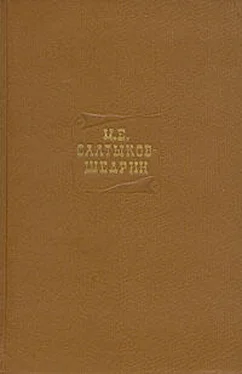Что касается до остроумия, то в этом отношении Перхунов вполне удовлетворял неприхотливым представлениям, сложившимся в затхлой мурье, в которой он жил. Он коверкал имена и фамилии, изобретал клички и был неистощим на проказы, от которых, несмотря на их незатейливость, иногда приходилось жутко. Прозовет Калерию Степановну Чепракову — Кавалерией Степановной, Тараса Прохорыча Метальникова — Тарантасом Прохорычем — и всем любо. Или судью Глазатова наградит кличкою «девицы вольного поведения» — и еще того всем любее. А если ночью в гостях кому-нибудь из «простеньких» подложит под подушку кусочек вонючего сыра или посыплет простыню солью, то и конца-краю общему веселью нет. Рассказывают друг другу о случившемся, шепчутся, хохочут…
За всем тем репутация вольнодумца и остряка сослужила Перхунову существенную службу. Благодаря ей, когда наступила крестьянская реформа, он, в качестве «занозы», был избран от нашего уезда в губернский крестьянский комитет, а оттуда пробрался даже в редакционные комиссии.
Тарас Прохорыч Метальников представлял совершенную противоположность Перхунову. Насколько последний был недостоверен и проказлив, настолько же первый отличался достоверностью и серьезностью не только помыслов, но и телодвижений. Все в его миросозерцании было ясно, внушительно и бесспорно; все доказывало, что он зараньше наметил себе колею, которая, так сказать, сама собой оберегала его от уклонений вправо и влево. В верноподданнической задумчивости он шел по жизненному пути, инстинктивно угадывая, где следует остановиться, чтобы упереться лбом в стену. И там, где Перхунов тормошился и восклицал: «На что похоже!» — он учительно и вполне убежденно утверждал: «С нас будет и этого!»
Разумеется, начальство репримандов ему не делало, но благосклонно предоставляло совершать жизненный путь наряду с другими, в сладком сознании, что если он никого не тронет, то и его никто не тронет (таков был тогдашний идеал мирного жития, которому большинство, отчасти добровольно, отчасти страха ради иудейска, подчинялось). Что касается до собратий-помещиков, то в их среде Метальников слыл мужем совета, и везде, где он ни появлялся, его принимали с радушием и почетом. Это общее уважение наглядным образом выразилось в том, что Тарас Прохорыч несколько трехлетий подряд был избираем исправником с таким единодушием, что о конкурентах и речи быть не могло.
Перхунов и Метальников постоянно враждовали друг с другом и редко встречались. Но зато когда встречались, то начиналась бесконечная потеха. Задирой являлся, конечно, Перхунов, а Метальников только щетинился, но оба были так «уморительны», что встречи эти надолго оставляли по себе веселый след, сообщавший живость и разнообразие неприхотливым собеседованиям, оглашавшим стены помещичьих гнезд в длинные зимние вечера.
Затем могу указать еще на братьев Урванцо̀вых, ближайших наших соседей, которые остались у меня в памяти, потому что во всех отношениях представляли очень курьезную аномалию.
Отец их, Захар Капитоныч Урванцов, один из беднейших помещиков нашего края, принадлежал, подобно Перхунову, к числу «проказников», которыми, за отсутствием умственных и общественных интересов, так торовата была тогдашняя беспросветная жизнь. Но проказливость его была уже до того назойлива и цинична, что даже наше захолустье не признало его своим. Одиноко прозябал он в своей берлоге, не принимая никакого участия в общем помещичьем раздолье и растрачивая свою озорливость среди безответных дворовых, не щадя даже кровной семьи.
Двоих близнецов-сыновей, которых оставила ему жена (она умерла родами), он назвал Захарами, а когда они пришли в возраст, то определил их юнкерами в один и тот же полк. Мало того: умирая, оставил завещание, которым поделил между сыновьями имение (оно было, по несчастью, благоприобретенное) самым возмутительным образом. Господский дом разделил надвое с таким расчетом, что одному брату достались так называемые парадные комнаты, а другому — жилые, двадцать три крестьянских двора распределил через двор: один двор одному брату, другой — рядом с первым — другому и т. д. И что всего обиднее, о двадцать третьем дворе ничего не упомянул.
Результат этих проказ сказался, прежде всего, в бесконечной ненависти, которую дети питали к отцу, а по смерти его, опутанные устроенною им кутерьмою, перенесли друг на друга. Оба назывались Захарами Захарычами; оба одновременно вышли в отставку в одном и том же поручичьем чине и носили один и тот же мундир; оба не могли определить границ своих владений, и перед обоими, в виде неразрешимой и соблазнительной загадки, стоял вопрос о двадцать третьем дворе.
Читать дальше