Но раз, другой взглянули, улыбнулись и сразу почувствовали себя непринужденно и просто, как прежде: никакой перемены не произошло, а если и произошло что-то, то так ровно легло на всех, что для каждого в отдельности стало незаметно. Все говорили и двигались странно: порывисто, толчками, или слишком медленно, или же слишком быстро; иногда захлебывались словами и многократно повторяли их, иногда же не договаривали начатой фразы или считали ее сказанной – не замечали этого. Все щурились и с любопытством, не узнавая, рассматривали обыкновенные вещи, как люди, которые ходили в очках и вдруг сняли их; все часто и резко оборачивались назад, точно все время из-за спины их кто-то окликал и что-то показывал. Но не замечали они и этого. У Муси и Тани Ковальчук щеки и уши горели; Сергей вначале был несколько бледен, но скоро оправился и стал такой, как всегда.
И только на Василия обратили внимание. Даже среди них он был необыкновенен и страшен. Вернер всколыхнулся и тихо сказал Мусе с нежным беспокойством:
– Что это, Мусечка? Неужели он того, а? Что? Надо к нему.
Василий откуда-то издали, точно не узнавая, посмотрел на Вернера и опустил глаза.
– Вася, что это у тебя с волосами, а? Да ты что? Ничего, брат, ничего, ничего, сейчас кончится. Надо держаться, надо, надо.
Василий молчал. И когда начало уже казаться, что он и совсем ничего не скажет, пришел глухой, запоздалый, страшно далекий ответ: так на многие зовыы могла бы ответить могила:
– Да я ничего. Я держусь.
И повторил.
– Я держусь.
Вернер обрадовался.
– Вот, вот. Молодец. Так, так.
Но встретил темный, отяжелевший, из глубочайшей дали устремленный взор и подумал с мгновенною тоскою; «Откуда он смотрит? Откуда он говорит?» И с глубокое нежностью, как говорят только могиле, сказал:
– Вася, ты слышишь? Я очень люблю тебя.
– И я тебя очень люблю, – ответил, тяжело ворочаясь, язык.
Вдруг Муся взяла Вернера за руку и, выражая удивление, усиленно, как актриса на сцене, сказала:
– Вернер, что с тобой? Ты сказал: люблю? Ты никогда никому не говорил: люблю. И отчего ты весь такой… светлый и мягкий? А, что?
– А, что?
И, как актер, также усиленно выражая то, что он чувствовал, Вернер крепко сжал Мусину руку:
– Да, я теперь очень люблю. Не говори другим, не надо, совестно, но я очень люблю.
Встретились их взоры и вспыхнули ярко, и все погасло кругом: так в мгновенном блеске молнии гаснут все иные огни, и бросает на землю тень само желтое, тяжелое пламя.
– Да, – сказала Муся. – Да, Вернер.
– Да, – ответил он. – Да, Муся, да!
Было понято нечто и утверждено ими непоколебимо. И, светясь взорами, Вернер всколыхнулся снова и быстро шагнул к Сергею.
– Сережа!
Но ответила Таня Ковальчук. В восторге, почти плача от материнской гордости, она неистово дергала Сергея за рукав.
– Вернер, ты послушай! Я тут о нем плачу, я убиваюсь а он – гимнастикой занимается!
– По Мюллеру? – улыбнулся Вернер.
Сергей сконфуженно нахмурился:
– Ты напрасно смеешься, Вернер. Я окончательно убедился…
Все рассмеялись. В общении друг с другом черпая крепость и силу, постепенно становились они такими, как прежде, но не замечали и этого, думали, что всё одни и те же. Вдруг Вернер оборвал смех и с чрезвычайною серьезностью сказал Сергею:
– Ты прав, Сережа. Ты совершенно прав.
– Нет, ты пойми, – обрадовался Головин. – Конечно, мы…
Но тут предложили ехать. И были так любезны, что разрешили рассесться парами, как хотят. И вообще были очень, даже до чрезмерности любезны: не то старались выказать свое человеческое отношение, не то показать, что их тут совсем нет, а все делается само собою. Но были бледны.
– Ты, Муся, с ним, – показал Вернер на Василия, стоявшего неподвижно.
– Понимаю, – кивнула Муся головою. – А ты?
– Я? Таня с Сергеем, ты с Васей… Я один. Это ничего, я ведь могу, ты знаешь.
Когда вышли во двор, влажная темнота мягко, но тепло и сильно ударила в лицо, в глаза, захватила дыхание, вдруг очищающе и нежно пронизала все вздрогнувшее тело. Трудно было поверить, что это удивительное – просто ветер весенний, теплый влажный ветер. И настоящая, удивительная весенняя ночь запахла тающим снегом, – безграничною ширью, зазвенела капелями. Хлопотливо и часто, догоняя друг друга, падали быстрые капельки и дружно чеканили звонкую песню; но вдруг собьется одна с голоса, и все запутается в веселом плеске, в торопливой неразберихе. А потом ударит твердо большая, строгая капля, и снова четко и звонко чеканится торопливая весенняя песня. И над городом, поверх крепостных крыш, стояло бледное зарево от электрических огней.
Читать дальше
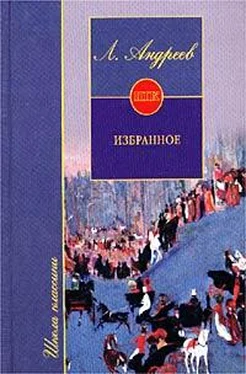








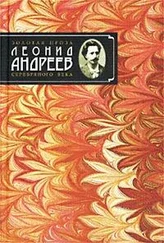
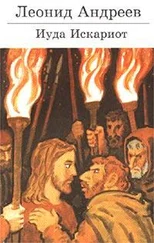
![Леонид Андреев - Повести и рассказы [litres]](/books/401954/leonid-andreev-povesti-i-rasskazy-litres-thumb.webp)
