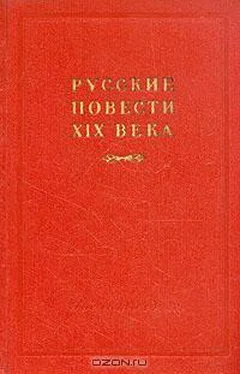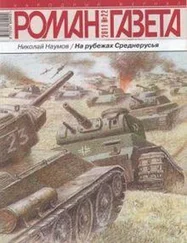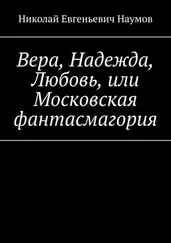— И как ты это в толк не возьмешь спросить: "Собрали ль мы подать-то?" — укоризненно качая головой, вмешался Роман Васильевич,
— Нк мое дело казенный сундук считать. Ты голова, ты и блюди!
— Ты бы спросил, много ль мы собрали-то ее. Мы и первой-то половины не очистили, а второй-то и не начинали; так энто казне не ушшерб?
— Ушшерб!
— А собрать-то ее когда же, а?
— Поторгует мир на Юровой, справится и очистит грехи… Подожди! Не вдруг!..
— То-то не поторгует!.. В лонские-то годы, помнишь, торговцы до ярманки грузили возы рыбой да отправляли. Мы до ярманки-то, бывало, сборные книги очищали, а ноне кто продал ее, рыбу-то, окромя наезжих крестьян, а? Принес ли из наших-то юрьевцев кто в подать-то хоша копейку, а? А ведь уж завтра ярманка… К вечеру, гляди, уж торговцы-то в обратный путь соберутся. Вы такцию-то установили, а не спросили того, кто купит по ней. В самые что ни есть неуловные года хрушкая-то рыба свыше девяти гривен да рубля с пятаком не поднималась, а вы два с полтиной заломили, а? И думашь, купят…
— Купят! — спокойно и твердо ответил ему Иван Николаевич.
— А кто купит-то… Смотри, ведь уж наезжие-то крестьяне всю рыбу продали, купцы-то уж наторговались! Так кто ж купит ее у наших-то?
— Гуртовщик, тот же Петр Матвеич, а для ча он по-твоему, когды уж все мелошники-то скупили ее у наезжих, наторговались досыта, а он не скупал… И дононе все сидит да ждет, а?
— Ну, а не купит, закапризится, поставит на своем, а? Тогды кому ее продашь, а? Да он, слых есть, и торговать-то ей боле не хочет!
— Купит! небось… — ответил Иван Николаевич, не изменяя тона, — ку-пи-и-ит! Теперя-то он с непривычки ломается, говорит, что торговать ей не хочет, мужичьих поклонов ждет, а увидит, что не поддаемся, и купит, и пять рублей положь за пуд, и, за пять купит! Неуж ты думашь, он на ярманку ехал на грош продать, а на два в долг отпустить, а? Не-ет, ему рыба надоть, рыба-a!.. За рыбой он едет, а ярманки-то хоща бы и век для него не бывало. Где возьмет ее теперя, опричь нас, а? С обских промыслов, что ль? Не-ет, там купцы-то тысячники плавают, почишше его, да коли он и купил какие крохи, то уж израсходовал в пост-то, тут масленая над головой, да сызнова пост, расход на рыбу-то, успевай повертываться, а ему не поторговать, и хлеба не видать, тоже есть хочет, а где, говорю, он возьмет-то ее теперя, опричь нас, а? Ну-ко? Торговать ей не хочет боле… хе… слушай ты его, он и не то исшо скажет! Коли б он ей торговать не хотел, не надоть была ему рыба, так для чего бы он это меня-то к себе призывал да ульщал всякими дарами, чтобы я цену сбил, а не с его ли голоса и ты говоришь о бунте да казенном ушшербе, а-а-а? А это ты как полагаешь, не казенный ушшерб, что мы с дурности своей в лонские-то годы что ни есть хрушкую-то рыбу по семи да по восьми гривен пуд отдавали ему, а он торговал ей по три с полтиной да по четыре с гривнами пуд, а? Ну-ко, сколь лихвы-то, тряхни-ко ерихметикой-то? Казенный-то ушшерб теперя, на мой ум, будет, коли мы ему по старым-то ценам отдадим, да-а! Разведи-ко умом-то, ведь мы казенные люди-то. Казне-то избытошнее, коли мужики-то в прохладе живут, не жуют хлеба, слезой поливаючи. Вот как мы энтой-то цены попридержимся, так гляди-ко, чего будет?.. Бедность не будет голодать, казенная недоимка не станет расти на ней, как грибы от дождя, тысячами! И тебе-то без горя, ты не будешь ее за казенну-то подать в заработки отправлять, вконец-то зорить ее. Бедность-то выправится да сама уплатит ее без слез! А коли мы поддадимся-то ему — и ушшеерб казне, не соберешь ее, подати-то, и будет богатому-то фазор, а бедности-то одни уж слезы… только ему нажива! На-а-жива ему, Роман Васильич, на наши-то труды! На неё-то он и брюхо растит. Возьме-е-ет… и последнее возьмет, как у Кулька да у Вялого, и спасиба не скажет. Вот ты за что Кулька-то да Вялого в разоренье-то отдал, а? А голова-a! Нам бы должен защиту дать, а ты вон какой распорядок-то сделал. Гре-е-х тебе, Роман Васильич, гре-е-х!
Роман Васильевич покраснел и, с смущением разведя руками, хлопнул ими по бедрам.
— А-а-ах! — произнес он, качая головой, — не друг ты мне, не друг, Иван Николаич.
— Не та дружья рука, Роман Васильич, что только гладит, а та, что и бьет подчас, на миру-то говорят! — ответил он. — А рыбу-то он все-таки купит у нас без ушшерба казне, не сумняйся! — заключил он.
Из толпы во все время речи его не возвысился ни один голос, изредка только среди невозмутимой тишины проносился легкий шепот или вздох, и затем снова все замирало. Роман Васильевич задумался и наконец, покачав головой, с тревогой в голосе произнес:
Читать дальше