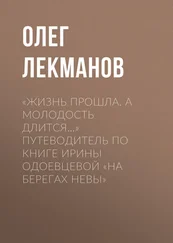Вот и сейчас, стоя посреди гостиной, я чувствую, что слишком высоко поднимаю голову и держусь слишком самоуверенно для "гадкого утенка". Я все еще не могу привыкнуть ко всеобщему равнодушию, окружающему меня здесь.
Что мне читать? Ведь здесь никто не знает и не любит моих стихов. Только не слишком длинное. Скоро Рождество - значит, это пойдет.
И я начинаю с моими прежними интонациями, паузами и жестами, как когда-то на берегах Невы:
Белым полем шла,
И странник шел со мной.
Он тихо сказал, качая
Белоснежной головой:
На земле и на небе радость
Сегодня Рождество...
Окончив, я возвращаюсь к дивану и сажусь рядом с Зинаидой Николаевной. Она наводит на меня свой лорнет-монокль и улыбается мне.
- Я не ждала, что вы так хорошо умеете выступать. Так независимо и гордо. Я сама когда-то выходила на сцену, как в тронный зал. Будто я королева, а слушатели - мои подданные. Я никогда не кланялась на аплодисменты, я принимала их как должное. Пусть себе хлопают, раз им хочется. Я не удостаивала слушателей вниманием.
К дивану подходит Димитрий Сергеевич и берет меня за руку.
- Я никак не предполагал,- взволнованно говорит он, - в вас такой глубины, такого мистического прозрения. Невероятно! Необъяснимо!
Я чувствую, что сейчас и я буду названа Тертуллианом, или Франциском Ассизским, или святым Бернаром, А может быть, даже Данте.
- Но ведь это совсем банально. Это все только бутафория, и дешевая...протестую я.- Направо добро, налево зло... Это все рифмованная чепуха.
- Тогда еще замечательнее, раз вы сами не сознаете, что создали. Это... это прямо невероятно.
Я кусаю губы, чтобы не рассмеяться, и больше не спорю. Сейчас, сейчас он провозгласит меня Франциском Ассизским. Но Зинаида Николаевна неожиданно вмешивается.
- Как это у вас? Выползет черепаха, пролетит летучая мышь? Да? И что змея появляется - хорошо. У меня тоже когда-то было стихотворение про змею.
Я такая добрая, добрая,
Как ласковая кобра я...
- Зинаида Николаевна, прочтите, пожалуйста, о ласковой кобре,- прошу я. И она не заставляет себя долго просить, к общему, и главное - моему удовольствию.
Мережковский, слушая ее, забывает о моей "небывалой глубине и мистическом прозрении", и слава Богу.
Зинаида Николаевна медленно, грациозно встает с дивана.
- А теперь пойдем чай пить. Давно пора. И все переходят вместе с нею в столовую и усаживаются вокруг стола.
Владимир Ананьевич Злобин, как всегда, ловко и быстро наливает и разносит чай, успевая в то же время любезно предлагать гостям бисквиты и сдобные булочки, как будто он, а не Зинаида Николаевна здесь хозяйка - очень внимательная хозяйка.
Разговор становится общим. Сегодня, исключение из правила, рассуждают только о стихах. Георгий Иванов проникновенно приводит цитату из Лермонтова, своего любимого поэта, восхищаясь ею:
В небесах торжественно и чудно,
Спит земля в сиянье голубом...
- Чушь! - перебивает его опоздавший на "День поэзии" Бахтин и, гордо закинув рыжеволосую голову, безапелляционно заявляет: - Лермонтов бездарность!
Меня такое заявление Бахтина не задевает и не удивляет. Я привыкла к его эксцентричным выпадам. Не далее как в прошлое воскресенье он заявил во всеуслышание, что "Еван гелие просто пустая книга, которой безумно повезло".
Но молодые поэты дружно и возмущенно хором протестуют, перекрикивая друг друга.
- Зина, посмотри, сколько он сахара кладет! - неожиданно среди шума и гула спорящих раздается возглас Мережковского. Указательный палец его вытянутой через стол руки указывает прямо на Георгия Иванова, действительно, как всегда, положившего пять кусков сахара в свою чашку чая.
Зинаида Николаевна поворачивает голову к Георгию Иванову, занимающему свое обычное место возле нее, с правого слышащего уха.
- Очень правильно делает,- говорит она одобрительно. -Необходимо хоть немного подсластить нашу горькую жизнь и наш горький чай. Ведь как скучно: и разговоры, и чай. и обед, все одно и то же. Каждый день. Не только в Париже, но и прежде, там, в Петербурге, еще до революции. Всегда одно и то же, говорили, ели и пили. Я как-то на одном обеде Вольного философского общества сказала своему соседу, длиннобородому и длинноволосому иерарху Церкви: "Как скучно! Подают все одно и то же. Опять телятина! Надоело. Вот подали бы хоть раз жареного младенца!" Он весь побагровел, поперхнулся и чуть не задохся от возмущения. И больше уж никогда рядом со мной не садился. Боялся меня. Меня ведь Белой Дьяволицей звали. А ведь жареный младенец, наверное, вкуснее телятины.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу