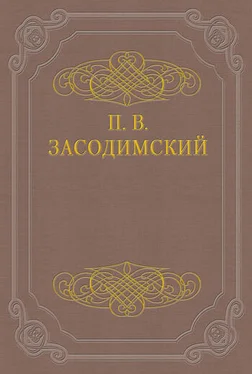Сильван чрезвычайно обрадовался арфе. Он хранил ее, как свое единственное сокровище, пылинки сдувал с нее. Он пел на городских улицах, ходил по ярмаркам, по деревням и селам, играл на деревенских праздниках, на свадьбах, на крестинах, – только на похороны не пускали его. Он играл на арфе простые, но хорошие песни. Хотя Сильван с виду был неказист, но он был честный человек, с сердцем кротким и незлобивым.
– Сильван! Сделал ли ты себе новый камзол? – иногда спрашивал его отец.
– Как же, батюшка! – сделал! – отвечал сын.
– Ну-ка, иди, покажи…
«Покажи» для слепого значило – «дай потрогать руками». Сильван близко подходил к старику и начинал повертываться перед ним. Старик проводил дрожащей рукой по его спине, по груди, по рукавам.
– Сильван! Да никак ты весь – в заплатах… – в недоумении бормотал старик, опасавшийся за здоровье сына.
– Что ты, батюшка! – вскрикивал Сильван. – Какие тут заплаты… Это у меня все нашито для украшенья, по моде, – ныне все так носят… Ах, батюшка! Если бы только ты видел: как это хорошо! Я весь точно жар горю… Когда иду по улице, все красотки заглядываются на меня. «Вон, говорят, смотрите, смотрите… Сильван идет!..»
– Ну, то-то, – говорит старик и приятно ухмыляется, воображая: как все любуются на его молодца.
А у того-то на камзоле – заплата на заплате и между заплат кое-где видно смуглое, голое тело.
– А отчего же ты босой? – спрашивает старик Сильвана, ощупав его голые ноги.
– Башмаки очень узки, натирают ноги! – не обинуясь, отвечает сын. – Дома я снимаю их…
– А шляпу купил? – допрашивает заботливо отец.
– Как же, купил… – продолжает Сильван… – И отличная шляпа… такая, знаешь… с пером, вся обшита бархатом… чудесная шляпа!
– Покажи! – говорит отец, протягивая к нему руку.
– Я отнес ее, батюшка, к мастеру. Нужно было перо исправить… – нимало не смущаясь, объясняет Сильван.
– Ну! то-то же! – шепчет успокоенный старик. Сильван ест кое-как, ходит в чем попало, дрогнет от холода, а у старика зато зимой – и теплый, уютный угол, и теплая одежда и сытная еда…
Простые люди любили добродушного Сильвана, любили его простые песни. Он умел играть и невинные, детские песенки, и ребятишки с удовольствием плясали под звуки его арфы. Слушая арфу, отдыхал поселянин от своих тяжких трудов, бедняк позабывал свое горе, а веселый становился еще веселее и добрее. И звучала арфа по городам и селам, по полям и по большим дорогам, всем доставляя утешенье и отраду… Арфа была довольна, счастлива. Никогда еще ей не приходилось доставлять удовольствия такой массе народа, как теперь. Ей отрадно было сознавать, что все эти люди – мужчины, женщины и дети – незадолго перед тем горько плакавшие, заслышав арфу, осушали слезы и только тихо вздыхали. По-видимому, горе их смягчалось, утихало…
Так шел год за годом.
Слепой старик, отец Сильвана, умер, вполне спокойный за сына и уверенный, что тот щеголяет в новом камзоле. Вскоре за ним и Сильван отправился в ту страну, «откуда никто не приходит»…
Хозяйка Сильвановой каморки предлагала кое-кому арфу, но желающих купить ее не нашлось. Хозяйка с досады забросила арфу на чердак.
Шел год за годом. Люди рождались и умирали. Земля в свое время то покрывалась снегом и деревья опушались белыми узорами инея, то цветы расцветали и летнее солнце обдавало землю ярким светом и теплом. То черные тучи сгущались на небе, с шумом и вихрем проносясь над землей, то легкие, белые облака, как воздушные барашки, тихо плыли по голубому небу…
А арфа, всеми оставленная, всеми позабытая, валялась на чердаке, в сору, в пыли и в паутине.
Теперь была в большом ходу и в моде ярко расписанная красками трехструнная балалайка, вся покрытая аляповатыми украшеньями из сусального золота. Ярко сверкала и горела она на солнце своим дешевым блеском. Конечно, музыка ее была довольно односложна: «трень-брень» – и только. Но ее трескучая, залихватская музыка – по большей части плясовая – очень нравилась… Балалайку можно было услышать и в театрах, и в концертах, на улицах и площадях – всюду: она не брезгала никаким обществом, не разбирала ни места, ни времени… Немало и доставалось ей: ее роняли, стучали ею по чему попало, – однажды даже треснули ее кулаком. Но балалайка – выносливый инструмент, не обидчивый, не особенно нежный…
А балалайка так и старается, так и надсажается: «Трень-брень! Трень-брень!» Хотя из ее бренчанья не выходит никакого толку, но резких звуков, звону и треску много, очень много… Балалайка – в ходу, балалайка – в славе.
Читать дальше