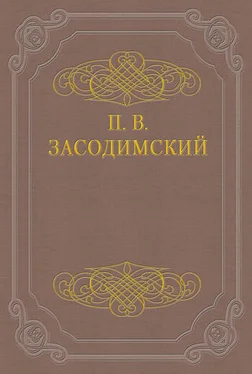Старшая сестра Гришина, Меланья, старая дева, существо жесткое и сухое нравственно и физически, между своими называлась «богомолкою» за то, что во дни далекой юности ей как-то удалось пробраться в киевские пещеры… Она, впрочем, не стесняясь, уверяла всех, что корабль носил ее и в святую землю, что и она, «грешная», город Ерусалим сподобилась увидать и что она, «недостойная», ко гробу господню припадала… Бойко рассказывала богомолка о черных арапах с белыми глазами, о зверях «необыкновенных», о лесах дремучих, о песках сыпучих, о реках, бегущих вспять, и о тому подобных дивах стран далеких.
Младшая сестрица Гришина, Марфа, была дева лет двадцати пяти, толстая, жирная, немного с придурью. Глядя на ее весноватое лицо, на нос, постоянно замаранный в саже, на вечно заспанные глазки, Максимовна не раз думала: «Глупа, мать моя, глупа! Да ничего! Дуракам-то лучше…» Тяжело вздыхая, выслушивала мать глупые Марфины речи…
Любовников Марфа меняла, как дерево листья, каждую весну. В настоящее же время в качестве возлюбленного при ней состоял живший от них неподалеку повар, которому она казалась и очень привлекательною и очень умною женщиной. Каждый вечер, после барского ужина, повар являлся к Гришиным и приносил кое-какие остатки от господской трапезы – кусочек-другой жаркого, чашку соуса или несколько штучек пирожного. Повар, будучи человеком грамотным и довольно начитанным, не раз остроумно замечал Максимовне:
– Мы с вами, как Лазари бедные, крупицами питаемся…
При этом повар набивал себе в нос добрую щепотку табаку и хихикал своим дребезжащим смехом.
Его негладко выбритая борода, одутловатые щеки, его красно-сизый нос и лысина, окруженная редкими прядями жиденьких волос, нравились Марфе; а старуха-мать не брезгала «крупицами со стола богатого».
– Николай Михайлыч такой прекрасный человек, право! Обходительный такой, ласковой… – говорила Максимовна кумушкам, а те, точно ничего не зная, поддакивали хором…
– Человек хороший, что и говорить! – вещали хищные птицы.
Сестра же «богомолка» от угощенья хотя и не отказывалась, но за глаза сильно порочила сестру-развратницу и повара-вора. Марфа же, по своей глупости, не умела пользоваться ослеплением своего возлюбленного, и все его подарки переходили в руки матери да «богомолки».
Самого же Федора нельзя было назвать ни особенно разгульным, ни особенно развратным парнем. Правда, он пил и в пьяном виде шумел и буянил, но пил он не от великой радости, как вообще русский человек, и в буйстве особенного удовольствия не находил. Целые дни, месяцы и годы проводя в сарае на льняном заведении купца Синеусова, целые дни, месяцы и годы бродя словно в царстве теней, сам как тень, – в среде жалких, испитых и бледных, задыхаясь в душной, пыльной атмосфере, работая с утра до ночи из-за копеек, работая до боли в груди и все-таки не будучи в силах жить по-людски, Федор ожесточался и свое дурно сознаваемое ожесточение топил в вине. Понятно бы сделалось его недовольство своею судьбою тому, кто увидал бы, как Федор в тускло освещенном сарае, стоя в облаках костицы [6]и пыли, изо дня в день крутил веревки и кашлял, кашлял до надсады. Подобный же удушливый кашель раздавался и по другим углам обширного сарая.
Но Федор – живой человек. Вопреки злой участи, захотел он попытать своего счастья; захотелось ему, голяку, свить гнездо, пожить с женкой. Настя-то ему больно по нраву пришлась. «Квартира есть! – раздумывал Федор, намереваясь делать предложение Насте. – А где трое едят – четвертый сыт будет… дело известное! А девка-то она работящая, красивая и тихая такая…»
В такую-то семейку попала Настя прямо из церкви под вечер сероватого летнего дня…
Воля всегда заманчива, но во сто крат она заманчивее для того, кому ее дают отведать и снова отнимают.
Если бы Степка с Алешкой не выходили по праздникам из своих смрадных подвалов на божий свет, то подвалы им не представлялись бы так скучны и мрачны, а божий свет не казался бы им так привлекателен и мил, как теперь, то есть когда они видали уже лучшее, нежели подвалы, и были знакомы хотя на мгновенье с жизнью на свободе. Братьям, при разных обстоятельствах, уже не раз приходила в голову одна и та же мысль – мысль освободиться из подвальной, забивавшей их жизни. Средства же к освобождению братья выискивали весьма различные, соответственно своим характерам…
Степка подобно лисице готов был на брюхе выползти из норки и осторожно, незаметно перегрызть сети, опутывавшие его. Алешка же, как волчонок, хотел одним скачком вырваться на вольный свет и разом, как ни попало, порвать веревки…
Читать дальше