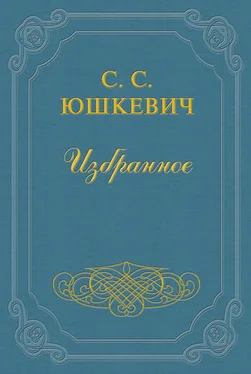Старик сидел, подняв очки на лоб, и в глазах его бегал огонь.
– Пусть слабые уходят, пусть сильные останутся, – выговорил он. – Пусть уйдет тот, у кого больная жена, больной ребенок, пусть уйдет несчастный и немощный, пусть уйдет калека и нищий, пусть уйдет тот, кто слаб умом, слаб сердцем… Но уходят наши надежды, наше воинство. И крик мой обрывается…
Нахман сидел, насупившись, и мучительно работала его мысль.
– Вернемся к тебе, – произнес, наконец, Шлойма, выходя из задумчивости, – что ты теперь думаешь делать?
– Скажите вы, Шлойма. Какое несчастие, что я не знаю ремесла.
– Ремесла? А почему бы тебе не поучиться у Хаима, пока ты ходишь без дела.
– Как вы сказали? – с волнением спросил Нахман.
Что-то блеснуло перед его глазами. Будто он стоял у стены, и вдруг стена раздалась, и открылся широкий путь.
– Отличая мысль, – пробормотал он. – Не понимаю, как это мне в голову не пришло?
– Что поделывает Мейта? – с улыбкой спросил Шлойма.
– Мейта? – Он покраснел. – Работает… Вы думаете, Хаим согласится?
– Конечно, согласится. Будешь чай пить? Ну, так возьми чайник и принеси кипятку. Не там, не там ищешь. Вот тут за печкой стоит чайник.
Нахман принес чай, и оба уселись за стол. Они опять заговорили, но уже об упадке дел, о безработице, и Шлойма постепенно раскрыл ему весь ужас, который принесла зима беднякам. Люди голодали, болели, и глядя из окна на чистый снег во дворе, такой белый и невинный, никогда нельзя было догадаться, что мучительные страдания были вызваны им. Они просидели долго в разговорах и расстались дружно.
Теперь Нахман так привык к Шлойме, что все время проводил с ним. Он уходил к нему с утра, и по целым дням они рассуждали о жизни, о том, что происходит в окраине, и опыт Шлоймы, как живая книга, учил его. Иногда они посещали Натана в больнице, и в немногие часы бесед все трое сближались теснее, и что-то новое, никому в отдельности раньше неизвестное, открылось каждому, Натан оставался в том же положении, но еще больше укрепился в своей мысли о необходимости приспособлена к страданию, был терпелив к своей болезни, спокойно ждал смерти и красноречиво говорил о своем счастье, что познал истину. Шлойма горячо спорил с ним, Нахман с обоими, и все втроем переживали что-то невыразимо прелестное, свежее.
– Вчера у меня был Хаим. Я с ним говорил о тебе. Он согласен выучить тебя набивать папиросы, а весною сможешь поступить на фабрику.
В тот же вечер Нахман, расспросив у Чарны, – она была Хаиму дальней родственницей, – куда Хаим выбрался, отправился к нему. Когда он завернул в переулок, где тот жил, то очутился в длинном проходе, шириною в три шага.
– Я никогда не знал об этом переулке, – подумал Нахман, зажигая спичку, чтобы отыскать дорогу в глубоком снегу.
Двухэтажные здания, ветхие, серые, были так близки, что от малейшего ветра грозили упасть друг на друга. Они протянулись далеко, а в конце переулка, как свеча, горела керосиновая лампа в фонаре.
Нахман все зажигал спички и, сердясь на ветер, который тушил их, с трудом добрался до узеньких ворот дома и зашел во двор. Там, увязая в снегу, он долго бродил, пока натолкнулся на живое существо, которое хриплым голосом прокричало ему, что Хаим живет в середине внутреннего флигеля, и что черт бы побрал незнакомых людей и чахоточных соседей… Нахман поднялся по узенькой лестнице и употребил силу, чтобы открыть примерзшую к раме дверь.
– Это ты Хаим? – послышался тихий женский голос.
– Нет, не Хаим, – ответил Нахман. – Я сам пришел к нему. Скоро он придет?
– Зайдите и закройте дверь. Кажется, вы Нахман?
Нахман вошел в комнату и на ходу произнес:
– Да, Нахман. Я был у вас, помните?.. У меня дело к Хаиму.
Теперь лишь он оглянулся, и тяжелая тоска сейчас же охватила его. На железной кровати лежала Голдочка, жена Хаима, и черты ее лица так изменились, что Нахман едва узнал ее. Щеки у нее горели, а скулы и верхняя челюсть придавали ей такой суровый вид, что чувство жалости мгновенно сменялось страхом. Комната имела форму маленького ящика, и сырость стен и тяжелый запах табака делали воздух удушливым, раздражающим. На столике лежала горка табаку, покрытая мокрой тряпкой. Чуть тлела зола в казанке.
– Садитесь, – медленно, с одышкой выговорила Голдочка. – Я вас сразу узнала, – она улыбнулась от радости, что память не изменила ей. – Хаим пошел за гильзами. Сядьте поближе.
Он пересел и, чтобы утешить ее, сказал:
– Вы лучше смотритесь, чем тогда, когда я был у вас. Честное слово! Как вы себя теперь чувствуете?
Читать дальше