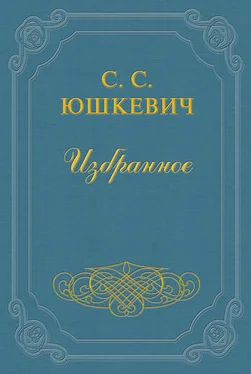Зейлиг не успел кончить из-за поднявшегося у дверей шума. Он поднял глаза и замер. Все в комнате вскочили со своих мест, а Ципка, поняв наконец, заголосила. В комнате стояло лицо, которое чрез минуту все разглядели. То был судебный пристав.
– Приступаю к исполнению своих обязанностей, – начал он…
Хаим всплеснул руками и ухватился за Фейгу. А Ципка завопила надтреснутым, каким-то тоскующим голосом последнюю мольбу нищеты:
– Не пишите, не пишите, – задыхалась она, поспешно утирая пот, ручьями катившийся с ее лица. – Не надо, куда я пойду со своими детьми? Бог, Бог, пошли ты мне смерть!
Она металась по комнате, ловя руку пристава для поцелуя, падала на колени перед ним, – то непреклонная, то покорная.
– Не трогайте, не пишите, – упрямо повторяла она, – куда я пойду с детьми? У меня муж ослеп! Бог, Бог, да проси же! – крикнула она дрожавшему Иерохиму. – О, калека проклятый, до чего ты нас довел. Вот, вот твои дети, на, бери их, берите их, берите все, душу мою возьмите!..
Иерохим, как стоял, так и опустился на колени. Странное впечатление производила эта фигура среди шума и гама, среди неряшливо набросанных вещей, безмолвная фигура, с протянутыми руками к кому-то с мольбой, с глазами, широко раскрытыми, с выражением мучительного недоумения на лине.
Ципка все еще металась – точно в горячке, всякий раз наталкивалась на Иерохима, который при каждом толчке, стоя на коленях, переползал на другое место.
Зейлиг, как привстал, так и остался в согбенной позе. Полы его сюртука сползли вниз, но он не замечал этого прижав обе руки к груди, он все смотрел в одну точку, изредка прислушиваясь к стенаниям Ципки, но больше думая о своем, о том, что думать над вещами, и губы его, казалось, шептали по-прежнему: все хорошо, все мудро.
Хаим, Бейла, дети и Фейга сбились в кучку, трепещущие и неподвижные.
А Ципка все еще, как ей казалось, кричала, но она давно уже говорила хриплым голосом:
– Не надо, не делайте, это все куплено… Бог, Бог, пошли смерть мне и моей семье!
В дверях подозрительно безмолвствовала толпа.