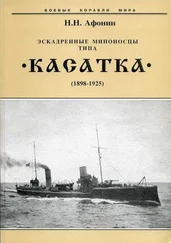С радостью слушал я Касатку, но и с горечью ловил себя на том, что мне все-таки кое-что удалось вытравить в себе; иные ее слова звучали для меня загадкой и как бы открывались заново - до того прочно забылись они, затерялись в памяти, С Касаткой мы виделись давно, За ученьем, работой все недосуг было подумать о ней, заглянуть в ее побеленную хату, с глухой стороны поддетую ольховой подпоркой. И сегодня я оказался случайно вблизи Чичикина кургана: шел мимо. Светало, повсюду в огородах нетронуто горели красные маки. Дымчато-сиреневый, фиолетовый, вперемежку с белым, цветущий горох лез на плетни и дразнил взгляд молоденькими, светло-зелеными стручками. Красота летнего хутора завораживала; огибая огороды, я не помнил, по каким улицам петлял, и наконец забрался в ее крайний, с пятью хатами переулок.
Тут она и окликнула меня.
Еще из-за плетня в одно мгновение я разглядел ее всю. Была она, как и много лет назад, широка в кости и дородна телом; большие руки ее все время двигались и не знали покоя; носила она темную, с бесчисленными оборками юбку, спереди прикрытую ситцевым запаном, русые волосы убирала и затягивала в тугую куделю и покрывала их белой, от солнца, косынкой с голубыми крапинками вроссыпь, которые шли к ее круглому лицу, особенно к синим глазам, - словом, в ней угадывалась русского склада женщина, привыкшая одна хлопотать и в поле, и дома, одна отвечать за все на свете.
Ходила она по-мужски, вперевалку. Много воды утекло, а я не нашел в ней сколько-нибудь значительных перемен: тот же облик и голос, та лее манера слегка подкашливать в кулак и с выжиданием, бесхитростно приглядываться к собеседнику, будто спрашивая: "А что ты за человек? На меня не серчаешь?"
В моем представлении она была такой же, какой и сейчас стояла передо мною в своих ботинках на босу ногу: пожилой теткой. Время, однажды изменив по своей прихоти ее фигуру и лик, казалось, навсегда остановилось для Касатки. Сколько ей было лет: шестьдесят, семьдесят?., семьдесят пять или более? Это было неважно. Я совершенно точно, с ранних своих дней затвердил в себе несколько странное, до сих пор необъяснимое ощущение:
она пожилая, вечная тетка. По старой привычке думать о ней именно так, меня и сейчас взяло сомнение: а была ли Касатка когда-нибудь молодою? Смущали, однако, и наводили на мысль о пережитой ею молодости синие глаза, в них было столько непоправимой, ничем не омраченной ясности, столько доброты, лукавства и постоянного, неодолимого ожидания чего-то удивительно хорошего, что даже не верилось, как это они удержали в себе этот блеск, живость, навек не замутились слезами.
Пока мы говорили, взяла нас в полон ватага утей.
С кряканьем они требовали посторониться, набрасывались на чашку, оттесняя и остервенело щипая друг дружку.
- Видал, Максимыч, какие! Они мне, враги, всю голову прогрызли. Чтоб они лопнули. Этой осенью, жива буду, всем головы оттяпаю, порежу их. Осточертели.
У меня вон руки пухнут бесперечь таскать им чашки.
Максимыч, ступай в хату, карточки посмотри, а я тут с горлохватами повоюю. Я живо прискочу.
Меня тянуло домой, и я заколебался:
- Может, в другой раз. Пойду я.
- Ты что, Максимыч? - с обидой глянула на меня Касатка. - Уважь тетку. Вон сколько не видались! Грех.
Правда что, мы как не родные... Не хочешь в хату - посиди на дровосеке. Я на ней сама в праздник сяду, юбку распустю и важничаю. Сидай! Да гляди, чтоб не перевернулась. Я раз так с ней завалилась - до се затылок ломит.
Тем временем она подхватила чашку и понеслась в сени готовить мешанину. Ути во главе со старым селезнем закачались, бегом затопали за Касаткой. А я сел на дровосеку, с удовольствием протянул ноги.
Двор мне знаком сызмала: пустой и покатый. В ливни вода в нем не застаивается, вся сбегает на улицу.
Ворота с почерневшими досками покосились; четырехгранный коренной столб, поставленный еще мужем Касатки, с натугой держал их на себе. Двор опоясывала изгородь с подгнившими ольховыми столбиками. Узкие планки в ней покоробились, иные высыпались, так что везде зияли пустоты. Возле закуток, тоже покосившихся, в которых ночевали поросята, ути и куры, лежала гора свежеоструганных шелевок и березовых хлыстов: Касатка, наверное, готовилась разориться на новый забор.
Как видно, двор был запущен потому, что до него пока не доходили руки. Касатка возилась с хатою, подвела серой глиною фундамент, вставила новые рамы. Вместо соломенной крыши, густо поточенной воробьиными гнездами, появилась крыша под дранью, в глухой стене - окно с голубыми ставнями. С огорода Касатка прилепила к хате довольно обширную пристройку, откуда тоже смотрелись окна. И труба над коньком весело белела, еще не задымленная копотью.
Читать дальше