- Э, э! - сказал я. - Друзья! Может, не стоит вам отвлекать хирурга?
Тут я почувствовал колоссальное облегчение.
- Ну, все! Самое страшное позади! - улыбаясь, сказала прохладная девушка.
Потом начались тонкие укольчики, видимо, от иглы - и все в одном и том же месте! Что они там, вышивают, что ли?
Потом я вдруг увидал, как с потолка зигзагами спускается пушинка.
- Э, э! Куда? - Я стал ее сдувать.
- Не надувайтесь же! - уже с отчаянием проговорила сестра.
Я услышал шершавые звуки шнурования.
Потом я увидел огромную белую спину Федора, выходящего из операционной.
- Что? Вспылил? - улыбаясь, спросил я прохладную девушку.
- Все! - ответила она.
К столу подкатили каталку, меня перевалили на нее. Я ощущал блаженство и покой.
Весело крутя головой, я ехал по широкому коридору.
Когда меня привезли в палату, откуда-то снова вдруг появился Федя, помог переложить меня на кровать и быстро удалился.
- Ну как? - поворачиваясь ко мне, спросил сосед.
- Чуде-есно!
Снова появился Федя, уже успокоившийся.
- Ну, ты клиент! - покачал головой. - Ты зачем все время живот надувал?
- Видно, для важности.
- Ну, ничего! Весь кошмар позади. Старик, первая у меня операция!
- Старик, и у меня!
Мать пришла, часа полтора посидела.
Следом Леха. Начал жаловаться на тяжелую свою жизнь:
- ... Я говорю ей: "Ты ж знаешь, многих только после смерти признавали!" А она: "Ну, так умри скорей! Не пойму, что тебя удерживает?!"
Леха зарыдал.
Я в таком моем положении должен был его еще и утешать!
- Ничего! - говорю ему. - Все отлично!
Он вдруг начал каракули мои рассматривать, которые я в блокноте чертил, лежа на спине, обливаясь потом.
- Мне бы твою усидчивость! - непонятно буркнул.
... На пятый день Федя долго мял шов, морщился.
- Что? Нехорошо?
- Да. Нехорошо. Инфильтрат. Затвердение шва. Так что извини, если что не так.
- Ничего-о!
Все в палате начали понемногу шевелиться, вставать - и вот по комнате ковыляют белые согнутые фигуры, заново учатся ходить.
На двенадцатый день кто-то украл мою ручку-шестицветку! Замечательно! Всюду жизнь!
И вот - утро, когда я выписался. Рано, часов в пять, только открылись ворота, я уже выскочил. Было тихо, светло. Вдалеке кто-то пнул на ходу ногой - шарканье пустой гуталинной банки по асфальту.
В шесть оказался я возле дома Лехи. Дом, освещенный солнцем, еще спал. Цветы на балконах стояли неподвижно и настороженно. Но Леха, к моему удивлению, бодрствовал.
- Да... жизнь не удалась! - сказал он, когда я, хромая, вошел в залитую солнцем кухню.
- Удала-ась!
Тут выглянула в кухню Дня, сухо кивнула.
- Болен был, значит?
- Ага! - радостно сказал я.
- А почему не сказал?
- Когда? - Я посмотрел на Леху. Потупившись, он молчал.
- Сам знаешь когда! Когда анализами менялся. Ведь знал!
- Конечно! Часами любовался своей мочой!
Я ушел... А вскоре он на другую работу перевелся.
После этого мы больше почти не общались.
Однажды только пытался прорваться к нему, и то он при этом дома находился, а я в Москве.
Зашел, помню, на Главпочтамт - перевода ждал.
На почте меня всегда почему-то охватывает чувство вины. Вспоминаются все, кому не пишу, и кому не звоню, и кого забыл. Потом вспоминаются те, кто забыл меня, и грусть переходит в жалость - жалость к себе и к своим бывшим знакомым, а потом и ко всем людям, которых когда-нибудь тоже забудут, какими бы замечательными людьми они ни были.
И тут еще, пока я стоял в очереди к окошку, ввезли на тележке груду посылочных деревянных ящичков: больших, средних, мелких и совсем маленьких, крохотных, размером почти со спичечный коробок. Я посмотрел на них и вдруг почувствовал, что с трудом сдерживаю слезы. Тот, кто якобы хорошо знает меня, конечно, не поверит: "Как же, амбал чертов, ящичков ему стало жалко!" Но тем не менее все было именно так. Я предъявил в окошечко паспорт.
Кассирша незаметно, как ей показалось, глянула в лежащую на ее столе записку: "При предъявлении паспорта на имя Елоховцева Виктора Максимовича срочно сообщить в милицию".
Сердце заколотилось, перед глазами поплыли огненные круги. Гигантским усилием воли я взял себя в руки, заставил вспомнить, что моя-то фамилия не Елоховцев! Совсем что-то слабые стали нервы!
Кассирша взяла мой паспорт. Перевода, как и следовало ожидать, не оказалось, и это еще больше усилило мою грусть. Но что-то в ней было приятное. Уходить с почты было неохота. Гулкие неясные звуки под высокими сводами, горячий запах расплавленного сургуча, едкий запах мохнатого шпагата - все это создавало настроение грустное и приятное, как в осеннем лесу. И вдруг моя грусть получила вполне конкретное наполнение: сегодня Лехин ведь день рождения, а я и забыл!
Читать дальше

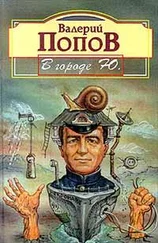


![Валерий Попов - Избранные [Повести и рассказы]](/books/414376/valerij-popov-izbrannye-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Очаровательное захолустье [Повести]](/books/414380/valerij-popov-ocharovatelnoe-zaholuste-povesti-thumb.webp)
![Валерий Попов - Чернильный ангел [Повести и рассказы]](/books/414381/valerij-popov-chernilnyj-angel-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Любовь тигра [Повести и рассказы]](/books/414384/valerij-popov-lyubov-tigra-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Новая Шехерезада [Повесть и рассказы]](/books/414385/valerij-popov-novaya-sheherezada-povest-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Жизнь удалась [Повесть и рассказы]](/books/414389/valerij-popov-zhizn-udalas-povest-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Нормальный ход [Повести, рассказы]](/books/414391/valerij-popov-normalnyj-hod-povesti-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Южнее, чем прежде [Повести, рассказы]](/books/414392/valerij-popov-yuzhnee-chem-prezhde-povesti-rasskazy-thumb.webp)
