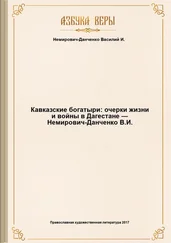Один, стреноженный, подскочил ближе и тоже потянулся за хлебом, — Амед скорее пошёл уже… Ему казалось, бояться нечего. Стреноженный конь отстал, лошадь Хатхуа следовала за ним и тянулась мордой к чуреку. Амед хотел уже вскочить в седло, как вдруг рядом, точно из земли вырос какой-то горец… Амед хотел припасть к ней, но было уже поздно, Он смело повернулся к нему… Горец смотрел на него с изумлением. Видно было, что он ещё не совсем сбросил с себя чары сна и не определил, видится ли ему всё это, или действительность сама перед ним. Амеду нельзя было давать ему время очнуться совсем. Он как-то присел и быстрым движением прыгнул — прямо на шею горцу, всунув ему в рот свой левый кулак! Оба повалились на землю. Но Амед уже обвил его крепкими ногами, а правой рукой сдавил ему шею… Горец захрипел… Амед бегло осмотрел его и отличил кабардинский наряд… Очевидно, он был на службе у Хатхуа… Амед заметил, что задыхавшийся нукер всё-таки рукою тянется к своему кинжалу, и отпустил горло его; не обращая внимания на то, что тот кусает его левую руку, — Амед выхватил свой, сам не зная как, быстро нащупал сердце лежащего, и не успел тот ещё употребить последних усилий, чтоб приподняться, как елисуец ударил его кинжалом. Судорога пробежала по телу несчастного… Что-то тёплое залило грудь Амеду… Он тихо встал… «Жаль мне тебя! — прошептал он. — Ты ни в чём не виноват, но верно судьба твоя была такова. Кысмет! Аллах судил тебе сегодня быть убитым. Всё равно, если бы ты осилил, — ты бы убил меня!..» Только теперь елисуец заметил, что у него с головы во время всей этой экспедиции слетела папаха. Он взял такую у убитого, снял у него из-за пояса пистолеты, которых у Амеда не было, и, оставив труп, — сел на коня и тихо поехал вперёд… Тут уже не было никого. Очевидно, убитый принадлежал к числу сторожей, поставленных у бивуаков. Хатхуа, боясь вылазки, обеспечил себя сильною цепью часовых спереди — там, где его лагерь обращён был лицом к Самурскому укреплению, — здесь же у него не было почти никого. Нападения отсюда не могло произойти.
Кабардинец, почуяв чужого всадника, заартачился было, но Амед знал горских коней и быстрым ударом кинжала поразил его ухо. Лёгкая рана заставила благородного коня вздрогнуть и кинуться вперёд, но елисуец чуть не разодрал ему рта удилами и так сильно ногами сжал ему бока, что конь захрипел, покосился на него и вполне подчинился воле своего всадника. Тут уже долина кончилась. Амед сообразил, что между ним и последним бивуаком Хатхуа версты две легло… «Спасибо тебе, князь! — засмеялся он, — и за ружьё, и за коня!» Ему на минуту жаль стало, что, пожалуй, этого подвига его никто не узнает. Самый подвиг ещё обнаружится утром, но кто его сделал, будет тайной… Впрочем, елисуйцы ведь не станут скрывать, что вчера между ними был Амед. А сегодня нет его; значит, Хатхуа догадается. Тем лучше. После этого уже никто не осмелится дома считать Амеда за юношу. То, что он сделал прежде и теперь, достаточно для того, чтобы даже на джамаате ему позволили говорить после старших, а настоящие джигиты, пододвинувшись, давали бы ему между собою место…
Он уже поднялся на первый холмик.
Точно завернувшаяся в белое одеяло, долина под ночною мглою была позади. Амед хотел было уже понестись теперь во всю, как вдруг там в темноте далеко-далеко, где должна была находиться крепость, вспыхнуло пятном в тумане, и, несколько секунд погодя, послышался сухой треск залпа. Опять огни и опять залп. Вот новое светлое пятно, очевидно, орудия с башни сбросили сноп огня в ночную темень, и глухой удар пушечного выстрела покатился в ущелье, которое начиналось у этого пригорка. Мгновенно позади точно ожили долина и горы. Гул тысячи встревоженных голосов наполнил недавнюю тишину ночи. Беспорядочные выстрелы затрещали со всех сторон. Где-то далеко послышались крики: «Алла! Алла!», и Амед сообразил, что какая-нибудь, посланная с вечера князем, шайка наткнулась на русский секрет и вызвала залп оттуда. В тактику горцев входили ночные нападения врасплох. Даже не достигая прямой цели, они всё-таки, не нанося им больших потерь, не давали русским возможности спокойно спать. Неприятель утомлялся и терял энергию и силы.
Амед, впрочем, недолго думал.
Он понял, что Хатхуа уже на ногах, что он хватился ружья и не нашёл его, кинулся к коню, и коня не было; что, несколько минут спустя, увидят убитого кабардинца, и всё дело обнаружится. Теперь каждое мгновение было ему дорого. Он наклонился к голове коня и чуть не в самое ухо ему пронзительно гикнул. Лошадь стремительно понеслась вперёд, выбивая искры из каменных пород, составлявших дно ущелья. Погони позади ещё не было, но Амед сам вырос в горах и понимал, что она не заставит себя ждать долго, особенно когда Хатхуа узнает, кому он обязан этим. «Амед, — сообразит он, — служит русским и послан не иначе, как русскими с депешами из крепости»… Каждая секунда увеличивала расстояние между елисуйцем и горцами. Не прошло получаса, как ущелье позади было уже оставлено, а впереди потянулись цепи едва различимые во мраке холмов. Одно спасение заключалось в том, что едва ли у горцев найдётся такая лошадь, как эта. Для Хатхуа легче было бы проиграть одну битву, чем потерять подобного коня. Это наполняло мстительную душу Амеда невыразимою радостью. Он даже нашёл возможным петь о чём-то, о чём сам не знал. Горным духом взлетал он на вершины холмов и злобным Джином вскачь стремился вниз. Эта ночь убьёт коня, но ему, Амеду, всё равно. Завтра он будет уже далеко — у самого берега моря… И какое ему дело тогда до огорчений Хатхуа!.. Он даже бросит кабардинца здесь на пути. Может быть, лошадь отыщет погоня и приведёт назад никуда не годную.
Читать дальше